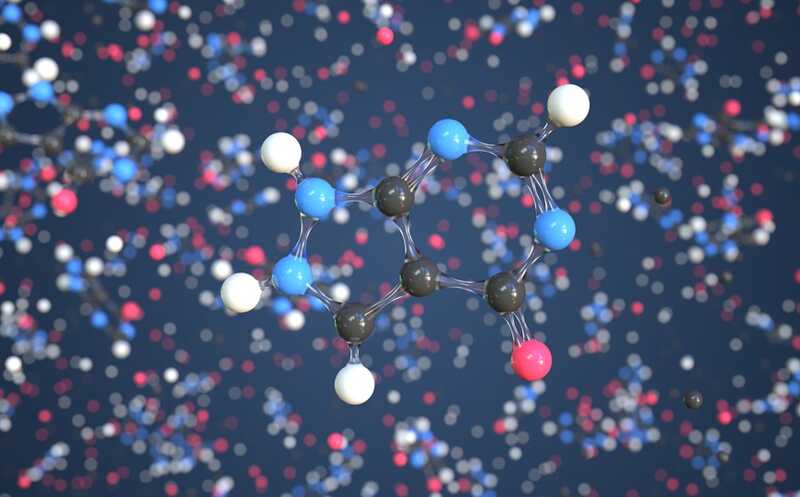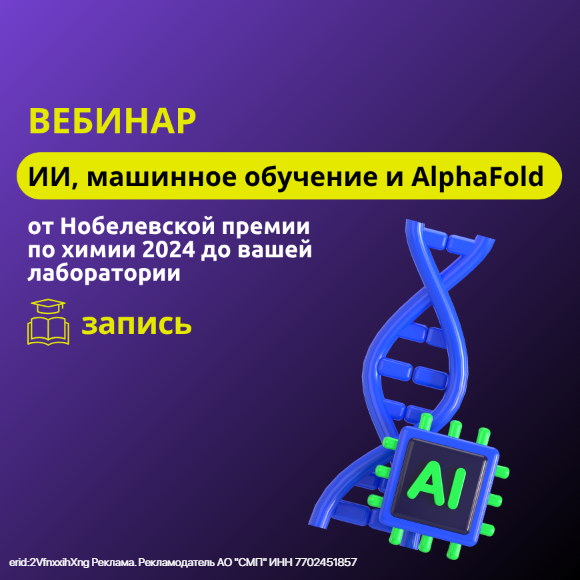Коктейль широконейтрализующих нанотел защитил мышей от яда 17 из 18 африканских змей
Исследователи из Дании и коллабораторы показали, что коктейль из восьми широконейтрализующих антител альпак и лам — нанотел — защищает мышей от токсинов 17 из 18 ядовитых африканских змей. От яда узкоголовой мамбы (Dendroaspis angusticeps) экспериментальное поливалентное рекомбинантное противоядие не помогло, но в остальных случаях оно было лучше коммерческого. Такие нанотела синтезируются в лабораторных условиях и имеют определенную аминокислотную последовательность, так что их производство легче масштабировать и стандартизировать, чем антител из сыворотки животных. Тем не менее, специалисты не ожидают скорого перехода к клиническим испытаниям, в основном из-за сложностей логистики и отсутствия финансирования.

Укусы змей представляют собой большую проблему для многих стран, особенно для стран Африки к югу от Сахары. В этом регионе ежегодно регистрируют более 300 тысяч укусов змей, 7 тысяч смертей и 10 тысяч ампутаций, при этом реальный показатель смертности может быть в пять раз выше. Первые противоядия для змеиных укусов появились в 1890-х годах благодаря усилиям французского иммунолога Альбера Кальмета, который вводил яд кобр лошадям и получал у них антитела. Несмотря на прогресс иммунологии и молекулярной биологии, с тех пор мало что изменилось. Однако исследователи из Дании и коллабораторы испытали иной подход к терапии укусов змей.
Основная проблема изначального подхода состоит в том, что противоядия эффективны только против змей, ядом которых иммунизировали лошадей (или овец), а против укусов других видов помогают плохо. К тому же в разных партиях противоядия могут содержаться различные уровни антител, терапия стоит дорого, а у реципиента могут развиться побочные реакции на большое количество антител животных.
Ученые занимаются разработкой альтернативных противоядий широкого спектра действия. Яды змей — чрезвычайно сложные смеси, которые содержат десятки и сотни белков, повреждающих ткани, вызывающих паралич и нарушающих свертываемость крови. Однако новые данные свидетельствуют о том, что несколько ключевых семейств токсинов, а именно трехпальцевые нейротоксины, фосфолипазы A₂, сериновые протеазы и металлопротеиназы, ответственны за большинство клинических эффектов ядов. Тогда одно широконейтрализующее антитело, нацеленное на определенное (под)семейство токсинов, может предотвратить токсичность и (или) летальность у мышей, которым вводили цельные яды. Также уже пробовали применять смеси нескольких рекомбинантных моноклональных антител или антигенсвязывающих фрагментов антител верблюдовых, содержащих только тяжелые цепи, VHH (нанотела), и они успешно нейтрализовывали 1–2 яда. Но чтобы стать заменой существующей терапии, нанотела должны нейтрализовывать яды всех релевантных видов змей региона. Авторы показали, что для нейтрализации ядов 17 из 18 самых релевантных видов аспидовых змей в странах Африки южнее Сахары нужно не так много широконейтрализующих VHH.
ВОЗ считает, что 18 видов змей региона заслуживают повышенного внимания. Они принадлежат к трем родам: Dendroaspis (мамбы; 4 вида), Hemachatus (ошейниковая кобра; 1 вид) и Naja (кобры; 13 видов); при этом род Naja делится на три подрода: Uraeus (5 видов), Boulengerina (1 вид) и Afronaja (7 видов). Яды Dendroaspis, Uraeus и Boulengerina в основном обладают нейротоксическим действием, а яды Hemachatus и Afronaja наносят сильные локальные повреждения.
Авторы создали иммунные фаговые библиотеки, чтобы идентифицировать VHH альпак и лам, таргетирующие токсины из ядов этих змей. Далее они идентифицировали самые релевантные с медицинской точки зрения токсины в ядах 18 видов аспидовых змей. Токсины принадлежали к трем белковым семействам: трехпальцевые токсины (3FTx), фосфолипаза A2 (PLA2) и ингибиторы сериновой протеазы типа Кунитца (KUN). Анализ протеомов 47 франций этих ядов позволил выделить подсемейства токсинов. Авторы отобрали 16 фракций для дальнейшей работы.
После фагового дисплея исследователи экспрессировали более 3000 моноклональных VHH в Escherichia coli и проверили их на связывание с соответствующими целевыми токсинами методом DELFIA. Примерно 60% VHH связались с целевыми токсинами, 25% клонов протестировали на перекрестную реактивность. Более 50% VHH связывали несколько токсинов из одного (под)семейства, после секвенирования авторы выявили более 100 уникальных клонов VHH. Они выбрали лучшие 15 VHH на основе широкой перекрестной реактивности и низкого значения EC50. Несколько VHH нейтрализовали токсины in vitro, так что авторы перешли к работе с мышами.
Ученые определили полулетальные дозы (LD50) фракций ядов, токсинов и цельных ядов при внутривенном введении мышам. После этого яды инкубировали с VHH (поодиночке и в смеси) перед введением (доза яда в три раза превышала LD50). Целью было использовать как можно меньше VHH в рекомбинантном противоядии. При нейтрализации авторы двигались от простых токсинов и фракций к сложным ядам. В конце концов они отобрали восемь VHH, нацеленных на семь подсемейств токсинов, важных с медицинской точки зрения, и объединили их в экспериментальное поливалентное рекомбинантное противоядие.
Цельные яды инкубировали с экспериментальным противоядием и вводили группам по пять мышей. Противоядие защищало мышей от яда всех змей кроме D. angusticeps. В большинстве случаях признаков поражения ядом выявлено не было. При введении ядов N. melanoleuca и D. viridis отмечались некоторые признаки отравления (закрытые глаза, периоды летаргии, сменяющиеся эпизодами чрезмерно активного груминга), при введении яда N. annulifera признаки отравления появлялись через 15 часов, яд D. polylepis вызывал кратковременную летаргию.
Далее авторы выяснили эффективность противоядия, если ввести его после яда. Сначала они рассчитали LD50 при подкожном введении яда. Но при введении яда змей Afronaja повреждение мышц и кожи было таким сильным, что мышей пришлось подвергнуть эвтаназии, так что в дальнейших опытах эти яды не использовались. В остальных случаях тройную дозу LD50 яда вводили подкожно, а через пять минут противоядие вводили внутривенно. Результаты сравнивали с действием коммерческого противоядия Inoserp PAN-AFRICA.
При введении яда змей N. haje, N. annulifera, N. nivea, N. senegalensis, N. nubiae и H. haemachatus признаков отравления не было, в случае D. viridis признаки отравления были, но мыши не умирали, в случае N. melanoleuca выжили три мыши из пяти. Противоядие только отсрочило смерть от ядов D. polylepis и D. jamesoni и не защитило от яда D. angusticeps. Рекомбинантное противоядие было более эффективным, чем коммерческое.
В конце авторы проверили, подходит ли экспериментальное противоядие для предотвращения дермонекроза, вызванного ядом N. mossambica, N. nigricollis и H. haemachatus. После инкубации яда с противоядием повреждения кожи были менее обширными. Если вводить противоядие после яда, то поражения тоже уменьшались, но значительно — только в случае N. nigricollis.
Эти нанотела синтезируются в лабораторных условиях и имеют определенную аминокислотную последовательность, так что их производство легко масштабировать. Несмотря на преимущества, рекомбинантные VHH также имеют ограничения. Так, короткий период полураспада VHH в кровотоке может ограничивать их действие с течением времени, в то время как змеиные токсины могут оставаться в месте укуса довольно долго. Для изучения этого сложного эффекта, вероятно, потребуются эксперименты на крупных животных.
В то еже время специалисты сомневаются, что рекомбинантные противоядия в скором времени перейдут на стадию клинических испытаний. Производство восьми компонентов в единой формуле, соответствующих всем нормативным требованиям, — сложная задача. Запланировать и провести клинические испытания противоядия в отдаленных регионах с ограниченной инфраструктурой тяжело с точки зрения логистики. Но самой сложной из всех является проблема получения финансирования, поскольку укусы змей случаются в основном в малообеспеченных сельских регионах.
Антитела человека, 200 раз укушенного ядовитыми змеями, стали компонентами антидота к 19 ядам
Источник:
Shirin Ahmadi, et al. Nanobody-based recombinant antivenom for cobra, mamba and rinkhals bites // Nature (2025), published 27 October 2025, DOI: 10.1038/s41586-025-09661-0


 Меню
Меню





 Все темы
Все темы




 0
0