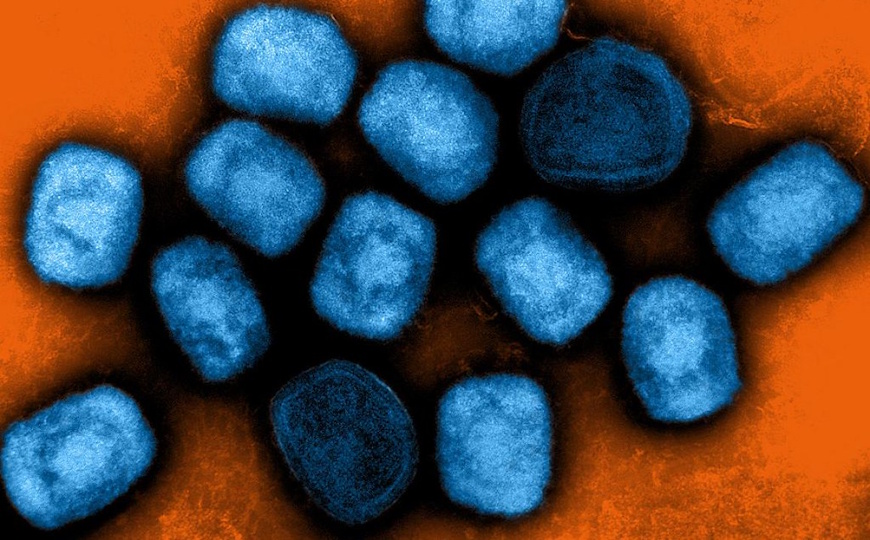Надежда Воробьева: «Мы полностью зависим от РНФ, у нас нет альтернативных источников финансирования»
Когда мы сидели без денег на исследования, мне пришла мысль, что нам бы очень помогла какая-то база или сайт по работам на заказ. Как у нас в России устроена коллаборация? Чаще всего за соавторство: ты делаешь что-то, и тебя ставят соавтором. Но когда у тебя нет денег, тебе гораздо интереснее сделать работу за деньги, пусть даже без соавторства… И есть противоположная ситуация — ты получил грант, тебе срочно нужны люди для его выполнения, интерес в том, чтобы кому-то делегировать задачи и заплатить за это.

Текст создан в рамках проекта «Завлабы»: редакция PCR.NEWS задает вопросы руководителям лабораторий, отделов и научных групп. Что бы вы сделали, если бы были всемогущи? Как должен выглядеть идеальный мир через 50 лет? Что вам не дает покоя? Какому главному правилу вы можете научить начинающих исследователей? И так далее.
От других людей я отличаюсь, наверно, тем, что стараюсь не давать новой идее слишком себя захватить. Стараюсь заниматься темой долго. То, чем я занимаюсь последние 15 лет, — активация транскрипции гормонами, и для того, чтобы я продолжала этим заниматься, мне нужно прилагать много упрямства. Иметь одну тему на 10 лет в нынешней науке не очень-то принято, даже в мировой, люди в основном работают на статью. Меня скорее захватывают какие-то методы, которые я могу использовать в работе. Студентам и аспирантам я говорю: наша лаборатория отличается тем, что у нас есть цель — что узнать, и для этого мы используем любые методы, доступные в мире. Тут не будет так, что они научатся клонировать или ставить ChIP-seq и больше ничему. Когда нужно, мы используем полногеномные методы, протеомные методы.
То, что идеологически меня захватило, было года два-три назад. Мы изучаем гормональную регуляцию транскрипции при помощи дрозофил. Они тем прекрасны, что у них один-единственный стероидный гормон экдизон управляет разными этапами развития. Один из самых известных процессов у насекомых, метаморфоз, наступает только после повышения концентрации экдизона. А меня поразило, что муха — это замечательная модель, на ней можно показать, как разные ткани по-разному на экдизон реагируют. У человека это практически не понятно, а у мухи, из-за того, что гормон один, выяснить это гораздо легче. На эту тему написан грант, над которым мы сейчас работаем. И почему еще она замечательный объект: это два совершенно разных организма. Личинка дрозофилы приспособлена, чтобы есть, она должна увеличиться более чем в 200 раз, накопить жир, чтобы пережить метаморфоз и стать мухой, вырастить ноги, крылья и все остальное. А куколка — это организм, который заново формируется. Те органы, которые были нужны личинке, — желудок, слюнные железы, жировое тело, — должны быть разрушены за несколько часов. Параллельно в этом же организме из зачатков ткани, которая муха «хранила» с эмбриона, начинает расти организм взрослой мухи. По сути, это такой отложенный эмбриогенез. И самое впечатляющее, что для обоих процессов нужен экдизон. Именно он заставляет работать гены, которые убивают одни органы, и гены, которые заставляют развиваться другие органы. Мысль о том, что этот момент развития — идеальная пробирка для того, чтобы изучить, как гормон действует на разные ткани, меня впечатлила, я в нее просто влюбилась.
Мне все время хочется больше думать о будущем, чем о прошлом. Я не очень умею гордиться тем, что уже сделано, надеюсь, что у меня получится сделать больше. В прошлом году мы опубликовали статью. Она была достаточно проходная, небольшая. Но один из рецензентов написал, что нам надо изменить тон статьи, снизить претензию на новизну представленных данных. Он написал, что за последние годы уже стало понятно, что экдизон-зависимые гены активируются так, как у нас написано, и в этом большую роль сыграла группа, которая подает эту статью. Для меня было очень приятно, что наша группа изменила какую-то область в науке.
Меня впечатлила недавняя новость о том, что в Российской Федерации одобрен первый препарат от болезни Бехтерева. Я знала, что препарат разрабатывается, еще года два-три назад, слушала на конгрессе доклад. Впечатляет, что наконец-то появился российский препарат first-in-class, грустно от того, что он один. Сейчас общее мнение, что у нас плохой трансфер технологий. Но у меня есть много знакомых, которые работают в российских фондах, где хотят вкладываться в российскую науку, пытаются искать препараты, чтобы поддержать их — и найти не могут. Люди имеют деньги и готовы их предложить… Конечно, когда фонды предлагают деньги, часто для ученых это тяжело. Та отчетность, которая ложится на тебя — ты готов не брать деньги, чтобы не сражаться с этой отчетностью. Это факт.
Мне, как фундаментальному ученому, кажется, что установки «давайте развивать практическую науку, получать препараты» и «я сейчас сяду и придумаю фармацевтический препарат» не работают. Если б у нас была очень сильная фундаментальная биологическая наука, это бы сработало. Но она совершенно не сравнима с американской или китайской. Если бы котел фундаментальной науки варил фундаментальные идеи, были бы люди компетентные, то, возможно, даже не они сами генерировали бы практические идеи по препаратам, а те люди, которых они воспитывали. На мой взгляд, не хватает фундаментальных исследований. И, кстати, я считаю четким подтверждением этого историю с препаратом от болезни Бехтерева. Люди, которые его сделали, — они фундаментальные ученые.
Мне очень не хватает перспективы, понимания, что моя лаборатория будет существовать дольше двух-трех лет. Мы живем с постоянным вопросом: что будет через два года? В Америке и в Китае, где устройство науки очень похоже на американское, тебе дают позицию, у тебя есть лаборатория, к тебе приходят работать студенты и аспиранты, за них платит университет. У тебя не болит голова, ты знаешь, что человек обеспечен. А когда к нам приходят студенты, ты думаешь, откуда им платить зарплату. Я считаю, что и студентам нужно платить адекватную зарплату.
«Мокрая» биология сейчас устроена так, что мы полностью зависим от РНФ, у нас нет альтернативных источников финансирования. Когда ты получаешь грант, появляются деньги на зарплату коллективу и на реактивы. В этом году был конкурс РНФ, раздали около 500 грантов, и конкурс составил 9-10 грантов на место. Это значит, что еще четыре с половиной тысячи коллективов в России сейчас сидят и ждут. Все, что у нас остается — это бюджетное задание, которое не предполагает денег на реактивы вообще, только ставка. Научному сотруднику с учетом президентских надбавок можно обеспечить 50-60 тысяч в месяц. В Москве это не зарплата, на этом можно пережить тяжелое время. Но и грант РНФ тоже не дает больших денег, я не понимаю, как люди делят его на десять человек. Если убрать из него налоги и реактивы, там остаются достаточно скромные деньги.
Мы получили новый грант РНФ, но два года были в ситуации ожидания. Долго я не могла понять, как набирать людей. Потому что как я могу взять человека, выучить его, а через два года сказать ему, что он должен идти в другую лабораторию? Я пока еще не могу с этой мыслью свыкнуться. Говорю, что наш горизонт — это два года. В следующем году у нас еще будут деньги, а гарантировать, что они будут еще через год, я не могу.
Общая идеология состоит в том, что нечего разрабатывать темы, на которые сложно получить деньги. Но такой темы, на которую в РНФ на 100% можно получить деньги, нет. Онкология или СOVID увеличивают шансы, но не гарантируют получения. Иметь свою тему и пытаться ее придерживаться очень сложно, и сложно сказать, как это можно улучшить. Если бы бюджет был чуть больше, чтобы мы могли «поддерживать штаны» между грантами РНФ, и предполагалось бы на реактивы и оборудование, то, может быть, это было бы более адекватно. Вот в Китае гранты тратят именно на реактивы, насколько я понимаю. В основном работают аспиранты и студенты, которым приличные деньги платит университет, у руководителя тоже приличная зарплата. По сути, грант получают на проект — на реактивы и на оплату статей, это тоже немаленькая часть.
Есть приличные позиции постдоков и аспирантов от университета. В Высшей школе экономики точно есть конкурс постдоков. Такое есть в Физтехе и Сколково, по-моему. Я знаю, что некоторые студенты серьезно думали идти в Сколково, а не в МГУ в магистратуру из-за стипендии. Но дело в чем: у нас есть научные организации, которые не очень с вузами связаны. Вузовские деньги проходят мимо нас. При этом вузы отправляют студентов учиться к нам в лаборатории начиная со второго-третьего курса, и мы за это не получаем ничего. Я к этому отношусь как к волонтерской деятельности. Конечно, человек, которого ты научишь, через год-два может принести тебе какие-то научные данные, но очень много людей уходят в другое место. Нужно смириться с тем, что ты просто делаешь добро миру, а не себе. Зато студенты великолепные, большие молодцы. И работают на уровне сотрудников.
После 40 лет в науке наступает «долина смерти», потому что заканчиваются президентские молодежные гранты. У РНФ в молодежных конкурсах можно участвовать до 35, на продлении ты можешь дотянуть до 40 лет. Молодежные гранты гораздо легче получить, чем обычные, потому что в конкурсе на обычные гранты могут участвовать директора институтов, например, Садовничий. И поэтому молодежь до 40 очень часто полна воодушевления, насколько замечательно можно делать у нас науку. А в 40 наступает осознание, что нужно соревноваться с «мастодонтами», а это практически нереально.
Когда мы сидели без денег на исследования, мне пришла мысль, что нам бы очень помогла какая-то база или сайт по работам на заказ. Как у нас в России устроена коллаборация? Чаще всего за соавторство: ты делаешь что-то, и тебя ставят соавтором. Но когда у тебя нет денег, тебе гораздо интереснее сделать работу за деньги, пусть даже без соавторства. Мы бы с удовольствием могли такое делать, если бы была конкретная задача: вот, есть такая-то сумма, сделайте нам библиотеки для секвенирования. Нам бы это и самим помогло продержаться, и при этом мы бы не теряли навыков. И есть противоположная ситуация — ты получил грант, тебе срочно нужны люди для его выполнения, интерес в том, чтобы кому-то делегировать задачи и заплатить за это: работу оплатить или взять человека временно на ставку.
У нас большой кадровый голод, и этот голод высосет людей в первую очередь из науки. Фирмы, которым нужны «мокрые» биологи, могут предложить гонорар больше. Я думаю, что сейчас из науки народ потечет.
Конечно, у меня есть отдаленные цели. Цель, которая за мою жизнь не будет реализована, — это понимать процесс активации работы генов. Почему ген начинает работать. В идеале представлять это как фильм: как это происходит, какие туда приходят белки, их около тысячи. А для себя более близкая цель на 10–20 лет – понять, как стероидные гормоны заставляют гены работать. Какие белки в этом участвуют, как это происходит на ДНК.
Мне бы хотелось больше понимания между фундаментальной наукой и фармой. Для того, чтобы мы поняли, как действуют фармпрепараты, мы должны понять, как действует то, на что они влияют. Для меня, например, как для молекулярного биолога, история с модификацией генома людей в эмбрионе выглядит странно. Мы хотим влиять на работу каких-то генов, не зная, зачем эти гены нужны. Про модификацию близнецов в КНР — хорошо, мы знаем, что мы мутируем этот рецептор, и он не даст заразиться ВИЧ. Но если рецептор существует, значит, он нужен. Мы должны понимать, что мы теряем. И так с любым применением CRISPR. Одно дело, когда ты берешь пул клеток из организма, например, для CAR T-терапии, модифицируешь клетки и возвращаешь в организм, — я считаю, что это разумно. А вот когда берешь в организме эмбриона и меняешь какой-то ген… Амбициозные люди считают, что человеку этот ген не нужен, а откуда они могут это знать? Я не понимаю. Мы настолько слабо понимаем, как работают наши гены и для чего нужны разные белки…
В принципе, мы знаем, для чего нужны многие гены. Но когда выясняется, что вот этот ген делает то-то, это становится его функцией, к нему лепят ярлычок. У генов много функций. Наша клетка — это густой суп с кучей белков. Каждый белок, продукт гена, взаимодействует с кучей других, и разумеется, он имеет разные функции. Было бы здорово через 50 лет прийти к тому, что каждому гену были присвоены многие функции. Это сложно. Думаю, через 10-20 лет получится понять это только на процентов пять, если вдруг не случится какой-то технологический суперпрорыв… Когда я начинала работать, секвенирование считалось невозможным, 10 лет назад считалось сложным, а сейчас это рутина. За 15-20 лет все изменилось кардинально.
Мне кажется, что изменить все может только перестройка образования. Если бы каждому ребенку дали шанс понять, что узнавать природу – это одна из самых больших радостей в жизни. У меня ребенок в третьем классе, и меня это сильно волнует. Я не знаю, как это делать. Думаю, что только собственным примером, только видеть реальных людей, которым это интересно. Мои знакомые в науке чаще всего видели людей, у которых горели глаза, когда они говорили о своем деле. Почему считается круто, когда в вузах преподают работающие ученые? Потому что, когда они рассказывают о волнующей их теме, совершенно по-другому люди говорят. И бывает, что одного-двух таких человек достаточно, чтобы выбрать свой путь.
Мы исследуем гены во всем геноме, на полногеномном уровне. Но секвенируем не просто геном, а именно места, где сидя» белки. Для этого нам нужен секвенатор, но сейчас иметь секвенатор и на нем секвенировать — это неоправданно дорого, запуск секвенатора стоит столько, сколько маленькая лаборатория. Если бы секвенирование стало дешевым, чтобы это можно было сделать в один день в нашей лаборатории, для нас это был бы прорыв. Сейчас мы вынуждены отсылать образцы в разные места, и даже если делать это в России, разницы по времени нет. Здесь делают один-два запуска в месяц, на них собирается очередь, и быстрее, чем за месяц, ты свои результаты не увидишь.
Все очень быстро переориентировалось на Китай. Правда, замещать реактивы для сложных процессов непросто. Для нас цена проверки реактива — это цена секвенирования, а если он где-то в середине цепочки, ты и не узнаешь, в чем проблема. Антитела мы делаем сами, тут у нас вопросов нет. Но, кстати, у самых топовых компаний, например Abcam, одно из трех-пяти антител на работает, все равно покупаешь «кота в мешке».
Мое личное главное правило — учиться играть вдолгую. Очень многому нужно учиться, чтобы продолжать работать в науке. Когда ты заканчиваешь аспирантуру, тебе кажется, что если ты можешь поставить научную задачу, решить ее, опубликовать результат, то ты уже ученый. Тебе кажется, что все остальное – мелочи. А на самом деле – добыть финансирование — это принципиальный момент. Научиться написать статью так, чтобы ее поняли, — это требует многих лет тренировок. Собрать коллектив людей, научить его и научиться им управлять — тоже сильный навык, этому постоянно учишься. Наверное, до момента, когда я стала ощущать, что я что-то могу сделать в науке, прошло лет 15. Пришло это ощущение не так давно.
Нужно научиться быть благодарным неудачам. Вот я поняла, что три года моей работы были впустую, — такая огромная неудача настолько заправляет тебя позитивом, что ты легче начинаешь относиться к мелким. В детективе братьев Вайнеров «Лекарство против страха» профессор говорит: «Жизнь настоящего ученого должна начинаться с неудачи, как жизнь настоящего мужчины должна начинаться с несчастной любви». Мне это было очень близко. Пока ты молодой, вся неудача пойдет тебе в силу. Но когда ты уже кем-то руководишь и от тебя зависят другие люди, любая твоя неудача уже будет отражаться на них, это будет все гораздо болезненнее.
В науке остаются только те люди, для которых драйв от узнавания неизвестного может перекрыть негатив. Многие говорят: если бы молодежь видела, что старшее поколение неплохо себя чувствует хотя бы на базовом уровне и есть какая-то перспектива, то, может быть, и оставалась бы. Сейчас молодежь остается, пока есть поддержка. А потом они понимают, что вне науки их ждет гораздо больше. К тому же есть наукоемкое производство, где можно найти некий баланс — да, ты не постигаешь секретов природы, но занимаешься тем же, чем занимался в лаборатории, и приносишь пользу людям. В России достаточно много таких производств, есть куда уйти. Будем надеяться, что останутся люди с желанием вести проекты вдолгую, наверное, сумасшедшие.
Беседовала Анастасия Полтавец


 Меню
Меню





 Все темы
Все темы






 0
0