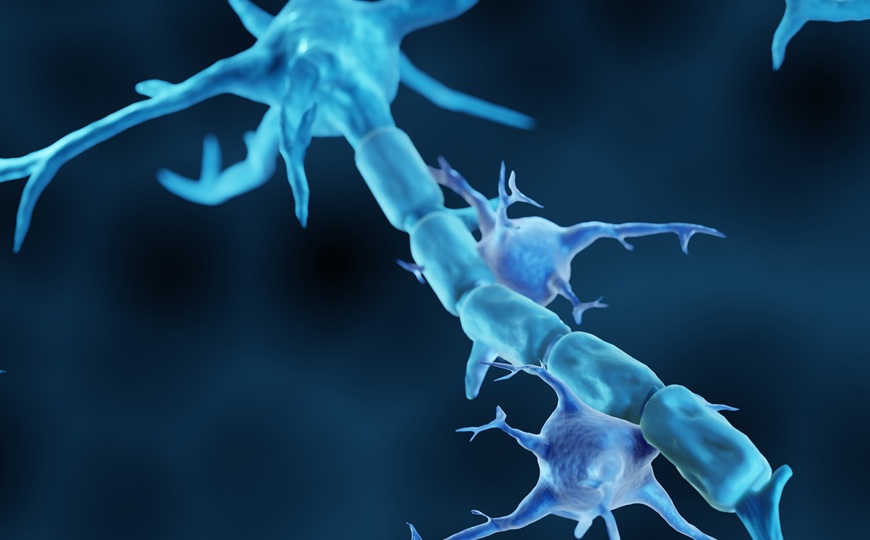Молекулярные ключи от мозга
На вопросы о геномике, транскриптомике, метаболомике мозга — и об эволюции мозга — отвечает Филипп Хайтович, профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех), заведующий Лабораторией омиксных технологий.

Что делает мозг человека мозгом человека, в чем суть его отличий от мозга других приматов? Как в эволюции возникли эти отличия, и что позволило человеку разумному развить столь мощный интеллект? Как мозг человека созревает и стареет? Чтобы разобраться в этом, исследователи из Сколтеха спускаются на базовый уровень — исследуют молекулярные основы мозга. Кстати, в будущем возможно и практическое применение этих фундаментальных исследований. Например, разработка молекулярного или биохимического анализа, результат которого указывал бы на когнитивные нарушения.
Мозг продолжает эволюционировать
В одной из недавних статей вашей группы показано, что у человека снижена скорость метаболического пуринового пути по сравнению с другими приматами и с неандертальцами. Как вы это выяснили и почему это важно для работы мозга?
Мы использовали мышиную модель, чтобы смоделировать этот биохимический процесс, и она сработала очень хорошо. «Очеловеченная» мышь с мутацией, которая влияла на активность фермента, позволила нам проследить некие биохимические особенности мозга человека. Изначально были такие наблюдения на посмертной ткани мозга человека, и вот удалось этот процесс смоделировать. Связать мутацию с определенным биохимическим изменением. Мы видим разницу в пуриновом метаболизме между человеком и живущими сейчас приматами, видимо, она существовала и между человеком разумным и неандертальцем. Соответственно, мы теперь знаем, откуда она взялась, какая мутация в каком белке является причиной. Но что является следствием этого биохимического изменения, мы пока не знаем.
Вы исследуете особенности мозга человека на молекулярном уровне. Но в ходе эволюции у человека увеличился размер мозга и усложнились нейронные связи. Вы считаете, что именно молекулярные изменения сыграли ведущую роль в этом?
Мы не знаем, какие изменения сыграли какую роль. Если говорить про размер мозга, то мы не знаем, в какой степени увеличение размера привело к появлению уникальных способностей. У наших предков больше миллиона лет назад тоже был большой мозг, но их интеллектуальные способности, судя по следам, которые они оставили, находились на очень примитивном уровне. У них долгое время не было никакого инновационного процесса, ничего не происходило. А потом, когда наши предки вдруг начали культурно и цивилизационно развиваться, размер мозга неожиданно начал немного уменьшаться.
Скорее всего, что-то внутри мозга довольно сильно изменилось с точки зрения его работы, но вот что — непонятно. Одной морфологией на данный момент мы это объяснить не можем, поэтому углубляемся в молекулярный аспект.
Другая сторона ваших исследований касается молекулярной биологии мозга в онтогенезе, от рождения до старости. То, что человеческий мозг развивается медленнее, чем у других приматов, имеет принципиальное значение?
Действительно, человеческий мозг развивается медленнее. Мы видим это в поведении. Конечно, нам было интересно, отражено ли это в созревании мозга на молекулярном уровне. И мы нашли, что динамика формирования синаптических контактов в мозге человека замедлена по сравнению с шимпанзе и с другими нашими родственниками. Это связано не с тем, что человек живет дольше, и не с разницей в скорости полового созревания. У человека этот процесс замедлен более чем в пять раз по сравнению с шимпанзе. Даже с поправкой на то, что люди живут дольше, остается большая разница. Есть предположения, что это важно для становления нашего сознания.
А когда мозг стареет, с какого возраста и какие биохимические изменения в нем начинают происходить?
Как и развитие, старение — это комплексный, сложный процесс. Похоже, в нем нет одного доминирующего процесса, а есть много разных. Что нам кажется интересным? Что при старении происходят не хаотические изменения, накопление «шума», а достаточно упорядоченные изменения. Конечно, все они могут быть следствием каких-то поломок, но эти поломки выглядят регулярными. Когда мы смотрим на наших ближайших родственников — на шимпанзе, на макак, — мы видим абсолютно те же самые поломки.
Вы сейчас говорите про поломки на уровне нейронных связей или на уровне метаболитов?
Мы отслеживаем общий уровень молекулярных изменений — активность генов, липидный состав. Есть уровень активности генов или уровень липидов, который характерен для взрослого, хорошо работающего мозга, скажем, 25-летнего, 45-летнего человека. Но в какой-то момент этот уровень начинает меняться — повышаться или понижаться по сравнению с тем, что мы считаем здоровым состоянием. И такие изменения мы видим для большинства генов, для большинства липидов. К сожалению, молодой уровень, как правило, не сохраняется. Но есть определенный порядок: в каком возрасте такой-то ген или такой-то липид начинает менять свою концентрацию и в какую сторону. Уровень активности гена или уровень липида у 90-летнего человека по сравнению с 25-летним снижается, скажем, в пять раз.
Наверное, есть индивидуальный разброс? Многое зависит от образа жизни человека, от образования, от физической активности?
Зависит, но не сильно. Конечно, если мы посмотрим на сотни людей, то будет какой-то разброс, у человека могут быть индивидуальные отличия. Но в каждом мозге изменения активности генов или концентрации липидов происходят в определенном порядке. А когда мы смотрим на мозг макак, которые стареют гораздо быстрее, — максимальная продолжительность жизни у них около 40 лет, и уже в 25 лет начинаются старческие заболевания, — мы видим те же события, что происходят в мозге человека, но эта «кинопленка» проигрывается в три раза быстрее. Это очень интересно, так как показывает, что максимальная продолжительность жизни вида — это эволюционный параметр.
На нее влияет естественный отбор?
Видимо да, согласно Дарвину должен.
Можно ли обнаружить связь между интеллектом человека разумного и относительно большой продолжительностью жизни?
Продолжительность жизни — это скорее эволюционный параметр, который связан с оптимальной выживаемостью вида. Человек в этом отношении не уникален. Долгожительство есть и у рыб, которые живут в пещерах, и у птиц, и у других видов. Когда вид занимает определенную экологическую нишу, в которой нет большого количества врагов, он может позволить себе такую продолжительность жизни. Человек может позволить себе долгожительство во многом благодаря своему мозгу, но у тех же шимпанзе максимальная продолжительность жизни около 70 лет, хотя мозг в три-четыре раза меньше. Поэтому, вероятно, вклад нашего интеллекта в изменение этого эволюционного оптимума не столь радикальный. Но могло бы сложиться так, что для нашего вида максимальная продолжительность жизни была бы не 100-120 лет, а 50 лет или 200. Механизм, который за это отвечает, неизвестен. И это очень интересная тема для исследования.
А то увеличение продолжительности жизни, которое мы имеем сейчас по сравнению с античностью или со средними веками — это не эволюционный процесс, а достижение цивилизации?
Когда мы говорим о продолжительности жизни, нужно четко различать среднюю и максимальную. Средняя продолжительность — это сколько в среднем прожили тысяча человек. Нельзя забывать, что большой вклад сюда вносит детская смертность. Если мы посмотрим на группы человечества, которые сегодня живут еще в первобытнообщинном строе — в Новой Гвинее, в Амазонии, — там высокая детская смертность, но есть индивиды, которые доживают до 60–70 лет. В группе большего размера наверняка были бы люди, которые доживали до 90-100 лет. Даже исследования египетских мумий показывают, что некоторые из фараонов доживали до преклонного возраста. Соответственно у нас нет оснований считать, что максимальная продолжительность жизни сильно изменилась за последнюю тысячу лет. А вот средняя продолжительность очень изменилась благодаря тому, что детская смертность сейчас практически нулевая. Но если мы откажемся от медицины, от прививок в том числе, то она быстро уменьшится.
Вы высказывали точку зрения, что болезни мозга — шизофрения, болезнь Альцгеймера, — это, возможно, показатели того, что уникальный мозг человека еще не оптимизировал свою работу. Можете пояснить эту мысль?
Это предположение. Мы видим, что эволюция оптимизирует определенные биологические системы. Те аспекты нашей жизнедеятельности, которые возникли в далеком прошлом, например, дыхание, очень устойчивы. Нет человека, который умер бы от того, что его дыхательные мышцы сломались, не от болезни, которая ведет к общему нарушению работы мышц, а сами по себе. Но у нас есть проблемы, которые связаны с прямохождением, потому что мы относительно недавно стали ходить прямо, — позвоночник, колени и прочее дают о себе знать.
Получается, эволюционно более молодые системы более уязвимы?
Это не исследовано систематически, но вполне вероятно, что это так и есть. Просто потому, что если мы рассматриваем эволюцию не как концепцию какого-то направленного дизайна, а как случайный процесс, то каждая возникающая система продолжает эволюционировать. Повышаются ее эффективность, устойчивость, снижаются энергозатраты и т.д. Таким образом происходит оптимизация ее работы. И существует гипотеза, что для мозга, для наших новых уникальных способностей прошло не так много поколений, чтобы этот функционал получил необходимую устойчивость.
 Credit: 123rf.com
Credit: 123rf.com
«Работ много, но целостной картины нет»
В мозге человека обнаружены гены, которые у него экспрессируются иначе, чем у других приматов. Этой информации недостаточно, чтобы понять уникальность нашего мозга?
Когда мы говорим об отличиях между мозгом человека и обезьяны, нужно понимать, что у нас нет прямой связи между молекулярным изменением и функционалом. Если мы находим отличия в активности каких-то генов, это только первый шаг. Надо понять, в каких клетках мозга меняется активность генов, как это влияет на функцию самих клеток, на взаимодействие между клетками. И если мы это понимаем, то можем построить модель, показывающую, как эти изменения повлияли на работу мозга в целом. Молекулярные отличия могут быть связаны с функционалом, а могут и не быть связаны, тогда они эволюционно нейтральны.
Ваша лаборатория в Сколтехе называется «Лаборатория омиксных технологий», значит, вы изучаете разные омики — геном, транскриптом, протеом, липидный профиль — так? На каждом из этих уровней вам удавалось найти специфические отличия мозга человека?
Да, мы смотрим уровень экспрессии генов, уровни липидов, белков, метаболитов. И мы видим, что мозг человека изменился сильнее, чем этого можно было ожидать исходя из нейтрального эволюционного процесса. Наш общий предок с шимпанзе жил 6–8 миллионов лет назад. Мы не знаем ничего про его мыслительные способности, но полагаем, что они были такими же, как у современных шимпанзе. Если бы у шимпанзе и у человека накопилось одинаковое количество отличий по сравнению с общим предком, то было бы сложно сказать, что они повлияли на функционал — а он, очевидно, у нас разный. Но мы видим, что на молекулярном уровне в человеческом мозге произошли гораздо более сильные изменения. Это дает основание считать, что отличия во всех типах омиксных данных затрагивают функциональные процессы. Хотя, конечно, наша возможность изучать такие специфические отличия именно в мозге человека ограничена.
Какими методами можно изучать биохимию человеческого мозга, помимо посмертных образцов?
Можно на культурах клеток, можно изучать какие-то аспекты на модельных системах — «очеловечивать» какие-то определенные белки у лабораторных грызунов внесением им определенных человеческих вариантов генов, как мы делали с ферментами пуринового метаболизма. Но если мы говорим про сам мозг, тогда, действительно, единственный материал, с которым можно работать, — это или посмертный, или получаемый при операциях, когда удаляют опухоль мозга или область эпилепсии. Конечно, при этом никакая здоровая ткань не вырезается, но все же периферическая ткань менее поражена, какие-то исследования можно на ней проводить.
У вас большое количество работ посвящено липидам мозга. Почему они так важны?
На липиды мозга мы смотрим не потому, что они являются какими-то ключевыми молекулами, а просто потому, что другие типы информации не дали нам полной картины о мозге. Было бы прекрасно, если бы мы сравнили геном человека и шимпанзе и сразу увидели, какие произошли мутации, как поменялись свойства белков, например, какой-то рецептор стал работать гораздо лучше, быстрее, — и вот она, разгадка наших способностей. Но, к сожалению, этого не произошло. Мы нашли много отличий в активности генов, важных для развития мозга, у человека и других приматов. Казалось бы, эти гены могут объяснить нашу уникальность. Но чтобы сделать следующий шаг, надо перейти от списка генов к тому функционалу, который меняется в нашем мозге. В этом направлении сделано несколько шагов: показано, что динамика синаптогенеза у человека и других приматов отличается, было несколько других гипотез, основанных на экспрессии генов. Но целостной картины у нас пока нет.
То же самое и с поломками мозга, когда возникают когнитивные нарушения, заболевания — шизофрения, депрессия, аутизм. Работ много, но целостной картины нет. Ни ДНК, ни экспрессия генов не дают нам ни причин заболевания, ни диагностических инструментов, ни разгадки самого механизма процесса. Поэтому просто для того, чтобы сделать картину более полной, мы стали смотреть на липидный состав мозга и на метаболиты мозга, пытаться понять, что же происходит на этих уровнях. Они не напрямую связаны с экспрессией генов, они отражают другие физиологические аспекты работы мозга и, соответственно, могут дать нам дополнительную информацию.
А можно ли значение липидов мозга объяснить тем, что они входят в состав миелиновых оболочек аксонов, и какие-то изменения в составе могут увеличивать скорость проведения нервных импульсов, скорость обработки информации?
Действительно, вполне возможно, что изменения миелина могут повлиять. Не нужно забывать, что практически все процессы в мозге происходят на уровне мембран. Там работают нейротрансмиттеры, возникает мембранный потенциал, и эти процессы зависят от состава мембранных структур, от их геометрических и химических свойств. Плюс липиды играют роль сигнальных молекул — например, производные арахидоновой кислоты и т.д. Существует много гипотез, как можно связать липиды с деятельностью мозга. Но чтобы понять, какие гипотезы более вероятны, а какие менее вероятны, нужны данные. Именно получением этих данных мы и занимаемся.
 Credit: 123rf.com
Credit: 123rf.com
Молекулярный тест на интеллект
Если говорить о перспективах практического применения ваших исследований, расскажите про сколковский проект «КоБрейн», в котором вы участвуете.
Сейчас проект «КоБрейн» уже эволюционировал в другой формат и перешел под эгиду Сбербанка. Но наше участие в нем мы считаем успешным. Из этого проекта появилось такое направление, как разработка биохимических тестов для определения риска когнитивных расстройств. Как мы знаем, если есть подозрение на какое-то соматическое заболевание, то пациента направляют на анализы, чтобы померить воспалительные маркеры, глюкозу, холестерин и т.д. Но если у человека проблема с мозгом, и это не опухоль, а некое когнитивное нарушение, то никаких объективных тестов на данный момент нет. Единственный способ диагностики — собеседование со специалистом. Это осложняет ситуацию как для пациентов, так и для докторов.
В рамках проекта «КоБрейн» мы исследовали метаболические и липидные изменения при когнитивных расстройствах, просмотрели несколько сотен посмертных образцов и увидели, что, действительно, при шизофрении есть ярко выраженные изменения. Скорее всего, также и при других когнитивных расстройствах. Это дало нам возможность обратиться к плазме крови живых людей. Потому что, если изменяется биохимия мозга, то, возможно, изменяется и биохимия крови, она отражает все, что происходит в теле. Мы провели большое исследование совместно с коллегами из Германии, Австрии, Китая и увидели, что есть маркеры, которые отделяют здоровых людей от тех, у кого диагностированы когнитивные расстройства. Мы были лидерами этого исследования, смотрели на образцы из Китая и Европы. Это пока исследовательская часть, но мы уже провели слепое тестирование: нам дали образцы, мы не знали, что есть что, и более чем в 90% отделили людей с диагнозом от людей без диагноза.
Диагноз «шизофрения»?
Там были разные диагнозы. Еще одна проблема: когда диагностика делается на основании собеседования, то сложно точно установить диагноз в отсутствие дополнительных молекулярных изменений, а в той же шизофрении существует несколько разных групп. Наконец, диагноз у человека может меняться с возрастом: у детей, у которых диагностирован аутизм, в будущем диагноз часто меняют на шизофрению, потому что добавляются симптомы. Я не психиатр, не могу сказать, в чем тут дело, но сам диагноз имеет динамику. Поэтому мы считаем, что молекулярный тест был бы полезным дополнительным инструментом для врачей в принятии решения. Ну и в процессе лечения, если по анализу крови будет видно, что биохимические маркеры возвращаются в базовое состояние, значит, лечение эффективно. Конечно, чтобы это дошло до практики, потребуется гораздо больше образцов и больше измерений.
Основная цель проекта «КоБрейн» заявлена как анализ больших баз данных на основе законов деятельности мозга. Собственно, сейчас он называется «КоБрейн-Аналитика». Это так?
Да, на самом деле основное направление этого проекта именно аналитическое, вычислительное. Ну смотрите: чтобы понять что-то о мозге, можно использовать несколько видов информации. Один из видов — это поведенческая информация. Другой — клиническая информация. Для мозга клиническая информация сейчас ограничивается в основном структурными данными: снимками МРТ или электроэнцефалограммами. Биохимических показателей, которые были бы информативны о работе мозга, очень мало. Хотя, например, для сердца или печени они есть. И мы поставили перед собой задачу, частично в рамках этого проекта, просто понять: а можно ли собирать биохимическую информацию о состоянии мозга. Если да, то в будущем появится новый объем больших данных, и какие-то показатели будут входить в диспансеризацию.
Когнитивные нарушения — только один из аспектов. На самом деле мы все хотим поддерживать наш мозг в оптимальном состоянии, и другой проект, который мы сейчас делаем, уже «посткобрейновский», — это «Здоровое долголетие» с Российским геронтологическим научно-клиническим центром. Они сделали уникальную работу: собрали информацию и образцы плазмы крови от двух тысяч с лишним московских долгожителей, которым 90+, и мы теперь знаем не только об их физическом, но и о когнитивном состоянии — на основании целой панели стандартизованных тестов. Сейчас в этом проекте мы будем смотреть: есть ли биохимические маркеры в плазме крови, которые коррелируют со здоровым долголетием, и если есть, то с какими механизмами они связаны? Это какие-то компенсаторные механизмы или сохранение какого-то липидно-метаболического уровня, характерного для молодых людей? Этот проект даст некоторую информацию о старении мозга и сохранении его активности при старении. Мы надеемся, что накопление биохимических данных позволит лучше разобраться не только с поломками мозга, но и с его сохранностью, с предотвращениями возрастных нарушений.
Наша плазма крови содержит тысячи разных соединений, но из них только десятки выявляются стандартными клиническими тестами. Действительно, большинство из них не информативны о работе мозга, но какие-то из этих тысяч все же информативны. Наша задача их найти и сделать так, чтобы эти тесты стали реальностью. Возможно, тогда людям удастся своевременно реагировать на изменения в мозге, так же, как некоторые из нас реагируют на повышение уровня холестерина или глюкозы.
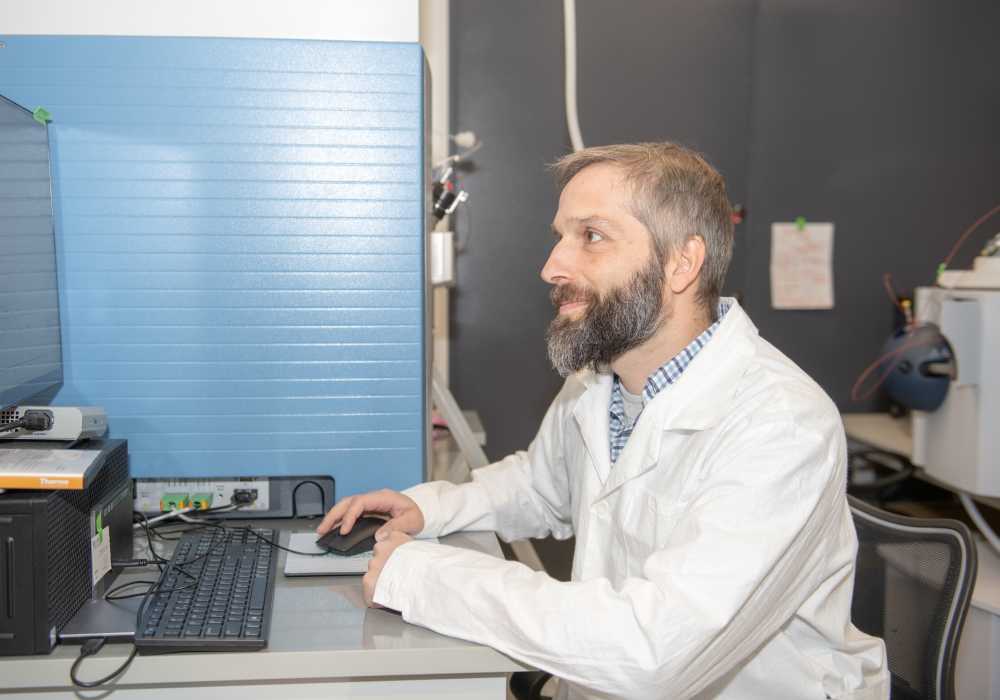 Филипп Хайтович в лаборатории. Credit: Тимур Сабиров | Сколтех
Филипп Хайтович в лаборатории. Credit: Тимур Сабиров | Сколтех
«Сколтехов должно быть много»
У вас есть опыт работы в США, в Германии, в Китае, где вы руководили лабораторией в Институте вычислительной биологии, и в России. Есть ли какие-то принципиальные отличия в организации науки в этих странах?
Мне сложно сравнивать, так как я работал во всех этих странах хотя и подолгу, но на разных стадиях своей научной зрелости. Одно дело, когда ты аспирант, другое дело, когда ты руководишь лабораторией. Но в целом, с точки зрения самой организации лаборатории, нет больших отличий. Конечно, в Китае традиционно роль руководителя более доминирующая. Но и в Америке есть много лабораторий, где такая же схема работы, а в Китае есть случаи, когда сотрудники лаборатории имеют очень большую свободу действий, проявляют большую инициативу. Скорее есть хорошие лаборатории и есть посредственные. И это зависит не от страны и не от института, а от сочетания факторов: хороший руководитель с достаточными навыками организационной работы, с хорошими идеями, талантливые сотрудники. Это на самом деле большая проблема, потому что, если в Шанхае или Нью-Йорке многие талантливые ребята хотят работать, то какой-нибудь, даже хороший, университет в глубинке страдает от того, что туда никто не хочет ехать. Поэтому, конечно, залогом успешной работы является возможность поддержания хорошо работающих коллективов, и это осуществляется за счет научного финансирования.
Есть несколько моделей. Например, модель Макса Планка в Германии подразумевает существование базового финансирования лаборатории, которое не зависит от грантов. В Америке и в Китае финансирование научных сотрудников иногда тоже не зависит от грантов, потому что, если вы уже имеете людей на постоянных позициях, получение грантов не должно влиять на их зарплаты. Но в Америке, если у вас нет гранта, то часто нет и ни одного сотрудника, ни одного аспиранта, и вы ничего не можете делать. Это разные модели, и та и другая работает. Конечно, если работа лаборатории целиком зависит от грантов, то люди стараются выбирать менее рискованные проекты, чтобы заведомо получить результат и подать на следующий грант. Поэтому в современной науке снижается число интересных исследований. Например, исследование липидов в мозге — достаточно рискованное направление, непонятно, каков будет результат. В то же время, если мы посмотрим изменение активности генов, то понятно, что какие-то изменения будут. Просто потому, что методики детекции более совершенны, есть опыт этой работы, есть опыт анализа данных. Мы вот рискуем и иногда сидим без денег. Но мне кажется, что этот риск того стоит.
А что вы думаете про состояние науки в сегодняшней России? На общем фоне Сколтех — это оазис, островок, где можно нормально заниматься наукой, делать интересные вещи и получать нормальную зарплату?
Я думаю, ситуация меняется. Раньше Сколтех сильно выделялся по оплате труда, сейчас такие зарплаты появляются и в других местах. Но дело же не только в этом. Конечно, должна быть зарплата, которая позволяет не думать о поддержании жизнедеятельности, но для ученых гораздо важнее финансирование их научной деятельности. А в этом плане Сколтех в той же степени, что и другие институты, зависит от внешнего финансирования, от грантов. Это неплохо, потому что нужно конкурировать. Но здесь хорошие лаборатории, с хорошим оборудованием, и с точки зрения привлечения сотрудников мы в выигрышной ситуации.
В нашей отрасли, в молекулярной биологии, многое зависит от людей. Сегодня мы сталкиваемся с дефицитом квалифицированных сотрудников — очень многие уехали. Талантливые ребята готовы оставаться, но для них нужно создавать условия. Сколтех — одно из мест, где такие возможности есть. Но Сколтех слишком маленький, таких сколтехов должно быть много — сотни и даже тысячи.
Человеческий потенциал есть, но его нужно постоянно поддерживать, не терять. К сожалению, тут нет никакого быстрого способа. Чтобы вырастить новое поколение ученых, нужны десятилетия. В Китае, где потеряли научную традицию во время культурной революции, создали специальные программы по возвращению ученых из-за рубежа. Вернулись тысячи. Хотя они не смогут решить все научные проблемы, но смогут научить новое поколение, и оно через двадцать лет станет той научной силой, которая будет двигать Китай. И мы видим, что научная составляющая в Китае становится все более весомой. Соответственно, и в России нужно создавать такую инфраструктуру, которая позволила бы талантливым молодым ребятам получать достойное образование, с привлечением лучших профессоров, а потом иметь четкую карьерную перспективу, применять свои знания в хороших лабораториях с современным оборудованием, где они могли бы воплотить свои идеи.


 Меню
Меню





 Все темы
Все темы




 0
0