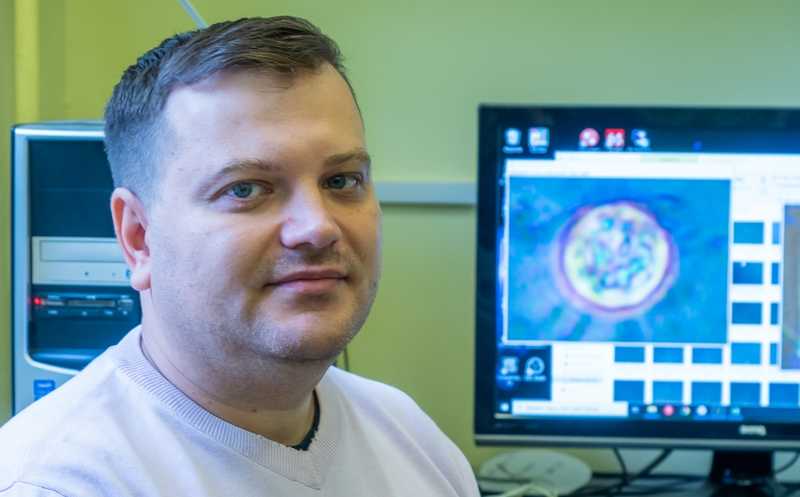Дмитрий Михайленко: «Надеюсь, что в ближайшие 50 лет произойдет глобальная революция и таргетная терапия станет повсеместно доступной»
Текст создан в рамках проекта «Завлабы»: редакция PCR.NEWS задает вопросы руководителям лабораторий, отделов и научных групп. Что бы вы сделали, если бы были всемогущи? Как должен выглядеть идеальный мир через 50 лет? Что вам не дает покоя? Какому главному правилу вы можете научить начинающих исследователей? И так далее.
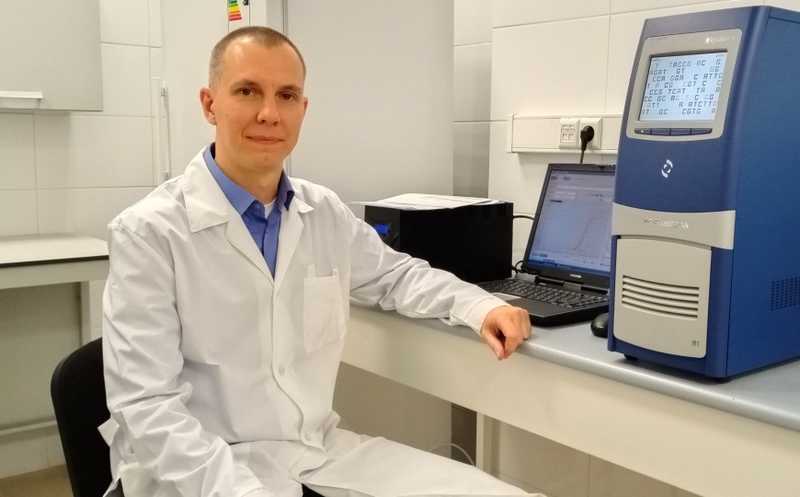
Я работаю в двух ипостасях — научно-образовательной (как заведующий кафедрой и как ведущий научный сотрудник), и по совместительству — клинико-лабораторной (как врач — лабораторный генетик, то есть тот человек, который непосредственно делает ряд диагностик руками, проводит их интерпретацию и составляет заключение).
Приходит пациент, и мы находим мутацию, которую раньше не обнаружили в других лабораториях, или мутацию, которая была неправильно классифицирована. Из-за этого не был своевременно выставлен диагноз, скажем, наследственного онкологического синдрома, и пациент не получал должной схемы лечения. Мы не делаем масштабного научного открытия, но проводим диагностический поиск и выясняем причину заболевания. Таких случаев немало. Например, к нам обращалась пациентка с синдромом Хиппеля — Линдау, причем у самой обратившейся не было диагностировано онкологическое заболевание, ее беспокоили другие болезни. Но, связав воедино ее клиническую картину, анамнез родственников, мы с коллегами из МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ поставили этот онкологический синдром в форме предварительного диагноза, а когда провели молекулярно-генетическую диагностику — секвенирование по Сэнгеру, он подтвердился. Дальше выявили мутации у некоторых родственников, и схема динамического наблюдения была выстроена правильно.
В России с сервисом все очень неплохо, даже по сравнению с развитыми странами. У нас делают много NGS-диагностики (секвенирование следующего поколения). Десять лет назад, когда мы исследовали какое-то наследственное онкологическое заболевание, мы понимали, что есть клиническая картина, есть набор генов-кандидатов, мутации которых могут за это отвечать. А сейчас мы гораздо больше генов исследуем с помощью NGS, и с этим, кстати, в мире связана новая проблема: находятся пациенты, у которые могут быть два патогенных варианта в генах, которые относятся к совершенно разным онкосиндромам. Человек приходит на одно заболевание, ему делают анализ, секвенирование экзома, например, и находят несколько патогенных вариантов. В его молодом возрасте колоректальный рак — это проявление синдрома Линча или той мутации в гене BRCA1, которую у него нашли? А может и еще чего-то? Хорошо, мы будем иметь в виду эти два патогенных варианта. А дальше динамическое наблюдение ему назначать по какому из синдромов? С какой периодичностью, какие органы-мишени смотреть и как? Ведь сейчас наступила «эра клинических рекомендаций» в медицине. Во многом определение клинической значимости выявленного генетического варианта уходит даже в чистую биоинформатику, потому что по всему миру выявляются различные генетические варианты — и доброкачественные, и неопределенного значения, и патогенные, и вероятно патогенные, их очень много, и они систематизируются в специальных базах данных. С правильной их классификацией дела обстоят пока хуже, чем просто с их выявлением. Поэтому в мире все больше приходят к тому, что должны быть единые правила, единый guideline, как правильно оценивать мутации в онкологии.
Из обычной поликлиники не пошлют на NGS, но это и не надо. Есть федеральные центры, есть крупные города-миллионники, где такие лаборатории есть. В Москве таких центров назову штук 10 сразу. А если нет рядом, то есть службы доставки в лаборатории, есть врачи, которые уже тоже что-то понимают, онкологи и химиотерапевты в крупных региональных онкодиспансерах, по крайней мере.
В конце Средних веков и в эпоху Возрождения наука и медицина были сферами, где работали и творили очень мало людей. Это касается и тех врачей, которые не просто лечили, а пытались что-то исследовать. Они всегда стремились к лучшему, и вопросов к их работе не возникало. Сейчас мы живем в другое время. Есть огромное количество врачей, разных. Поэтому нужна клиническая рекомендация, чтобы хотя бы как-то унифицировать уровень оказания медицинской помощи.
Количество научных сотрудников в каждой развитой стране исчисляется тысячами. И здесь получается следующее: за рубежом многие проблемы упираются сейчас в так называемый кризис перепроизводства постдоков, очень большая конкуренция за позиции, особенно кандидатов из Индии, Китая, развивающихся стран, из Восточной Европы… И каждый руководитель лаборатории вынужден заботиться не о том, чтобы сделать открытие, а следить за тем, в какие сроки у него заканчиваются позиции, какие контракты, какие гранты. Его главная задача — вовремя, в правильном количестве и в правильных журналах опубликоваться, чтобы закрыть отчетность по текущему финансированию и получить на этом основании следующее финансирование. Что не есть совсем хорошо, это замена цели на средства. У нас на такую же отчасти ситуацию наслаиваются некоторые отечественные реалии. Если бы можно было дистанцировать лидеров научных групп и научных сотрудников от часто возникающих вопросов, связанных с отчетностью и поиском текущего финансирования, они бы больше занимались тем, чем должны заниматься.
Мы распределили обязанности в нашем коллективе онкогенетиков в МГНЦ, и все работает более-менее слаженно. Например, у нас есть лаборатория молекулярно-генетической диагностики №2. Сотрудники этой лаборатории являются врачами — лабораторными генетиками, их задача — квалифицированно делать сложные анализы, писать заключения. Не писать статьи. Наоборот: рядом лаборатория эпигенетики, и там как раз есть научные сотрудники в штате, и это их задача писать заявки на грант, писать статьи, выполнять руками научные проекты. При этом сотрудник может быть на основном месте в научной лаборатории и по каким-то интересующим диагностикам выполнять, скажем, на 0,25 ставки еще и диагностическую работу в соседней клинической лаборатории, разумеется, при наличии сертификата/аккредитации. Есть специальный человек, который должен вовремя все закупать, чтобы не заканчивались «носики» и пробирки. И есть образовательное подразделение для врачей, для специалистов, для наших аспирантов, ординаторов, это уже моя основная задача. И все равно мы варимся в одном котле, и такой симбиоз хорошо работает.
Никогда не бывает стопроцентных ученых или завлабов-менеджеров. Одна наука, конечно, лучше. Когда ты пишешь статью, а не редактируешь клиническую рекомендацию, это всегда повышает настроение. Но никогда не получается заниматься наукой в изолированном виде. Я даже не про себя лично. У нас есть два сотрудника, у одного была диссертация по туберозному склерозу, он разрабатывал диагностику. А потом у нас началась программа по вовлечению пациентов в эту NGS-диагностику. Кто будет курировать генетическую часть? Тот же сотрудник. Такая же ситуация с нейрофиброматозом первого типа. Сотрудница, биолог и биоинформатик, всегда делала чисто научные исследования, но когда появилась программа диагностики, то поручили ей.
Мне приходилось участвовать в круглых столах по апдейту отечественных клинических рекомендаций в онкогенетической области. Это очень важная часть деятельности в профессиональном сообществе, хотя пока она больше основана на самоорганизации специалистов-энтузиастов внутри ассоциаций и иногда пациентских сообществ. У врачей-специалистов есть чем заняться вместо того, чтобы ходить на круглые столы, но они пришли и работают. Я тоже понимаю, что это нужно и важно, хотя это пока и без существенной дополнительной оплаты.
Радует, когда специалист, которого мы обучаем, начинает хорошо работать. В рамках нашего курса повышения квалификации бывали случаи, когда приезжает специалист, например, из Ростова-на-Дону, который раньше вообще не работал в области онкогенетики, ничего не делал руками, никогда даже толком не читал про эту область. А потом неожиданно приходит хвалебное письмо от их директора: большое спасибо, что провели такое хорошее ДПО.
Не так давно в некоторых организациях были распространены краткосрочные трудовые контракты чуть ли не на полгода. Получалось, что научный руководитель, с которым на полгода заключают контракт, должен поручиться за аспиранта, которого будет вести 4 года. Сейчас эта ситуация исправляется, но все равно важно, чтобы можно было планировать свою жизнь и работу хотя бы на несколько лет вперед. Сейчас, конечно, это несколько затруднительно, в конце 2022 года… И еще есть пожелания регулятора. Например, раньше в Минобрнауке и РАН, академическом сообществе обсуждалось, что аспирантура должна быть кузницей научно-педагогических кадров. Это не фабрика по производству кандидатов наук, а это место, где должны готовиться в первую очередь ученые, преподаватели высшей школы и т.д. А защитятся они или нет — дело второе. Потом возобладала другая точка зрения: самый главный показатель обучения в аспирантуре — защита в срок. А планы организации, жизненные планы людей за один день не перестраиваются. Когда определенности будет больше, это всем пойдет на пользу.
Россия всегда была частью цивилизации — западной, или можно ее назвать античной, или просто цивилизацией. Слова «наука» (в европейских языках), «культура», «архитектура», «медицина» и содержание этих слов — из античной цивилизации, мы все ее часть. Это относится даже к современным странам Азии, с которой мы сейчас начинаем активно сотрудничать. Cейчас есть трудности с компаниями, с которыми мы работали раньше по NGS, — Thermo Fisher Scientific, Illumina, поэтому мы теперь ориентируемся, например, на BGI, локализованную в Китае. Некоторые страны Азии достигли таких успехов в уровне жизни, в экономике потому, что акцептировали наиболее удачные экономические модели и лучшее, что было создано в рамках нашей общей цивилизации. Я думаю, что рано или поздно мы вернемся в общее цивилизационное пространство, все будет хорошо. Любые глобальные изменения рано или поздно заканчиваются, а по нынешним временам главное для нас — сохранить результативность работы. Не «просесть», не утратить многое в новых условиях.
С юридической точки зрения прямо сейчас я могу уехать, но решил остаться здесь, работаю, в общем-то, я и планировал жить и работать в России, выезжая за рубеж временно по рабочим вопросам или на отдых.
Может быть, такое обилие конференций, как сейчас — это уже лишнее? С этого года заработала система НМФО, когда медицинским специалистам не надо очно проходить раз в пять лет курсы повышения квалификации в течение месяца с лишним, как было раньше. Сейчас люди копят баллы. У вас должна быть как минимум одна полноценная образовательная программа повышения квалификации, а остаток баллов можно добирать, например, конференциями. В ковид все поняли, что это легко делать в зуме, и сейчас проходит дикое количество конференций, врачи жалуются, что зачастую некогда заниматься делами, которые действительно нужны… Может быть, разумнее вместо обилия конференций сделать чуть больше качественных образовательных модулей? Электронных, очных — как угодно. Делать не очень длинные образовательные циклы по проблемным аспектам. И врач за пять лет пройдет 3–4 таких цикла.
Лет 15–20 назад журналисты на всяких ток-шоу задавали вопрос «из-за чего развивается рак?» и говорили, что ученые еще сами не понимают. Сейчас так сказать нельзя. В общем виде сейчас ответ звучал бы так: рак развивается из-за мутаций в онкогенах и генах-супрессорах. Но гарантированно предсказать, в каком точно возрасте и каким типом рака заболеет каждый конкретный человек — задача, скорее всего, невыполнимая. Тем не менее, рак — болезнь генома, и хорошо бы, чтобы все врачи знали онкогенетику для правильной и своевременной диагностики и для того, чтобы правильно назначить таргетные препараты на основе генетического профиля конкретной опухоли. Среди широкого круга онкологов пока еще невысокая грамотность в этом отношении, но она постепенно улучшается. Так же и для врачей узкого профиля, например, при диагностике наследственных онкосиндромов: когда к урологу попадает пациент, у которого есть странные доброкачественные узелки (фиброфолликуломы) на коже верхней части туловища, множественные кисты в легких, то он должен заподозрить, не синдром ли это Берта — Хога — Дюбэ, при котором примерно у 20% пациентов с течением времени развивается хромофобный рак почки.
Есть хорошие примеры взаимодействия лабораторий и медицинских онкологических центров. Например, НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге — лаборатория Евгения Наумовича Имянитова, 62-я онкологическая больница Депздрава Москвы — лаборатория Ирины Анатольевны Демидовой, замечательная лаборатория Максима Филипенко в Новосибирске, есть очень хорошая лаборатория в Екатеринбурге у Александра Цаура… Там вопросов не возникает, что делать с молекулярно-генетическим заключением. Но есть и другие примеры, когда люди почему-то выписывают доброкачественные генетические варианты под видом патогенных. С 2019 года у нас в стране по ОМС массово выполняются наиболее актуальные позиции — это мутации KRAS и NRAS при колоректальном раке, мутации BRAF при меланоме, мутации BRCA1 и BRCA2 методами как ПЦР-РВ, так и NGS и т.д. В диагностику оказалось вовлечено много лабораторий и, естественно, возникают проблемы с качеством тестирования в некоторых местах. С этим надо что-то делать в ближайшее время.
Идеального мира через 50 лет не будет. Я читал работы тех, кто занимается aging genetics, старением во всех аспектах: пишут, что человек может жить в благоприятных условиях примерно 120 лет. Ну, будем к этому стремиться, чтобы средняя продолжительность жизни была не 60–70, а именно эта цифра. И проблема онкологии становится здесь во главу угла, потому что раньше люди не доживали до своего рака, а сейчас в развитых странах и в России в том числе продолжительность жизни относительно высокая. Кроме того, возрастает количество новых случаев, которые обусловлены мутагенным воздействием. Ведь что является основным поставщиком мутаций в нашем организме? Это наши естественные процессы. Представьте: клетке приказывают за 2 часа скопировать 3 с лишним миллиарда пар оснований. Естественно, клетки ошибаются. Но кроме этого есть химический и радиационный канцерогенез. Наша система репарации ДНК, наверное, не очень была готова к тому, что за считанные десятилетия вокруг появится такое большое количество химических канцерогенов. Поэтому онкология никуда не денется, ее будет столько же, а может быть, и несколько больше. Просто надо рано ее диагностировать и правильно своевременно лечить.
Избавить мир от онкологических заболеваний — это невозможно в принципе, стоит сделать так, чтобы эти заболевания перестали быть фатальными. Еще в прошлом веке гипертоническая болезнь тоже была очень страшным заболеванием. Препаратов для снижения давления долгое время не было, и как только диагноз ставили, — один криз, второй криз, потом инсульт, и человек на кладбище. А сейчас терапевт назначает схему препаратов, и все наши с вами родственники, бабушки-дедушки, десятилетиями их пьют и живут нормально. И задача в том, чтобы онкология стала примерно такой же категорией заболеваний, которую рано и без проблем можно было бы диагностировать и с помощью хирургического лечения избавлять пациента от болезни, если это одиночная опухоль. А если пациент пришел на поздней стадии, по крайней мере сделать так, чтобы не на год-два увеличить продолжительность жизни, а на десятилетия. Ведь что значит «излечить»? В случае с четвертой стадией, когда есть отдаленные метастазы, о полном излечении говорить вряд ли придется. Но! Если, скажем, человек в 65 лет заболел онкологическим заболеванием, то еще полвека назад не было фактически методов лечения распространенных форм этого заболевания, и история болезни была не очень долгой. А сейчас и особенно в будущем, когда будет развиваться таргетная терапия, если он после этих 65 прожил 20 лет и умер от инфаркта, или инсульта, или от сахарного диабета, то можно сказать, что проблема с онкологическими заболеваниями решена. Пациент живет, живет без сильных болевых синдромов, так, чтобы это не снижало качество жизни. На это сейчас все направлено — и генетическое тестирование опухолей, и изобретение огромного количества новых таргетных препаратов.
Есть два класса таргетных препаратов — моноклональные антитела и таргетные синтетические ингибиторы. Есть опухоли, которые очень хорошо отвечают на терапию фактически через считанные месяцы — видно значительное уменьшение размеров опухоли. Скажем, опухоли с активирующей мутацией в гене EGFR хорошо отвечают на соответствующие ингибиторы. Есть другие примеры, особенно это касается некоторых мезенхимальных по происхождению опухолей, когда не удается подобрать эффективный препарат. И именно выяснением вопроса, связанного с новыми мишенями, с новыми препаратами в таких случаях, все и занимаются в мире. Это такая бесконечная гонка, потому что опухоль ведь тоже эволюционирует. И неспроста вторую часть занятий по спорадическим опухолям мы начинаем с клональной эволюции опухолей. Дерево клональной эволюции опухолей очень похоже на то дерево, которое Чарльз Дарвин рисовал на судне «Бигль», когда путешествовал и занимался происхождением видов. У опухолей все время происходят мутации, появляются новые субклоны. Какой-то субклон оказывается в силу мутации более способным инициировать к себе рост новых сосудов, он более агрессивный. А тут появляется еще один субклон, который может не только расти внутри этой опухоли, но также разрушать базальные мембраны, инвазировать другие органы или отселять отдаленные метастазы…
Это постоянная гонка с клональной эволюцией опухоли — назначение пациенту новых, более эффективных препаратов. Какое-то время у него ремиссия, а потом все равно идет внутриопухолевая клональная эволюция. И кто здесь окажется лучше — наше сообщество ученых, которое ищет новые препараты, исследует генетические мишени для их применения, или опухоль — это вопрос.
Надеюсь, что в ближайшие 50 лет произойдет глобальная революция, когда лечение таргетной терапией станет доступным повсеместно. Мне кажется, что Россия имеет для этого все шансы.
Человек всегда проходит свой индивидуальный жизненный путь. Бесполезно рассказывать ему какие-то правила. Но некое резюме я бы сказал. Проблемы в работе будут всегда. Где бы мы ни жили, чем бы ни занимались. Вопрос: как к этому всему относиться? Как к стимулу для активности, к поиску новых, неожиданных решений. И здесь важно ставить далекую цель на те же самые 10–20 лет, и до нее еще несколько промежуточных «контрольных точек». И идти равномерно. Тогда, возможно, все и получится.


 Меню
Меню





 Все темы
Все темы






 0
0