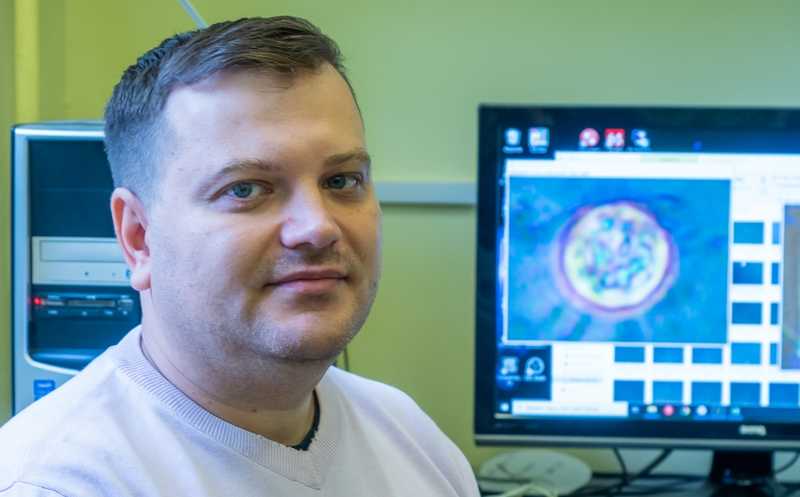Андрей Глотов: «Для безумных идей нужны безумные ученые»
Текст создан в рамках проекта «Завлабы»: редакция PCR.NEWS задает вопросы руководителям лабораторий, отделов и научных групп. Что бы вы сделали, если бы были всемогущи? Как должен выглядеть идеальный мир через 50 лет? Что вам не дает покоя? Какому главному правилу вы можете научить начинающих исследователей? И так далее.

Первое «техническое удовлетворение» от своей работы я получил от первого эксперимента — заливки полиакриламидного геля для фореза. Я тогда был студентом второго курса, нужно было найти себе место базовой работы, и нам посчастливилось попасть в генетическую лабораторию, которая занималась исследованием человека. Эта лаборатория называлась «Пренатальная диагностика наследственных и врожденных болезней» и находилась в Институте акушерства и гинекологии, где я и сейчас работаю. Нужно было аккуратно готовить раствор, смешать реагенты, залить гель между стекол и ждать, когда он застынет, и после этого уже вынимать гребенки и вставлять его в электрофорезную камеру. Обычный форез для разгонки ПЦР-продуктов. В тот момент, а это 98 год, реактивы были невысокого качества. И задача была не только аккуратно их взвесить на весах, которые работали с периодической ошибкой, но и почувствовать, подобрать концентрацию. Я этому учился в течение полутора-двух месяцев.
Когда я проработал больше года, мне неожиданно поручили сложную задачу — разработку диагностики спинальной мышечной атрофии, того заболевания, о котором сейчас говорят из каждого угла. И первую в стране пренатальную, дородовую диагностику провели мы вдвоем вместе с Антоном Вячеславовичем Киселевым, который тогда был моим учителем, а сейчас является моим сотрудником. Он старше меня всего на три года, но тогда это было значимо: я был студентом, а он уже аспирантом. Первый результат был крайне значим для нас. Во-первых, у нас получились все форезы, все ПЦР, все эксперименты. Во-вторых, мы действительно диагностировали тогда, что у пациента делеция в гомозиготе в гене SMN1. Мы обследовали семью, диагноз был подтвержден у пробанда, а дальше мы определили его у плода. Та семья прервала беременность и не родила больного ребенка. И ты понимаешь, что твой труд не был напрасен. Он закончился практическим результатом: сложным, но все таки выбором семьи.
Если хочешь считать себя ученым, ты ни при каких условиях не должен подправлять результаты — что получил, то и есть. У меня был важный опыт, связанный с изучением генетических маркеров у спортсменов. Была гипотеза, что есть связь с вариантами гена ангиотензиногена, гена АГТ, белок которого регулирует тонус сосудов, то есть работу ренин-ангиотензиновой системы. И тогда мы вроде бы получили интересные результаты, установили связь с физиологическими и физическими качествами… Мы прыгали от восторга с коллегой, но потом оказалось, что рестриктаза, которую мы использовали, — Tth111, произведенная уважаемой заграничной компанией, — не работала. И пришлось пересматривать результаты. Пришло первое научное разочарование, когда понимаешь, что твоя гипотеза не подтверждается. После этого я понял для себя самое важное: я никогда не буду подделывать научные результаты, даже если буду расстраиваться. Буду публиковать как есть. У меня было много случаев, когда коллеги говорили, что «готовы скорректировать», «давай подправим»… Нет. Наверное, это воспитание кафедры, я благодарен своим руководителям — на тот момент руководителем кафедры у нас был видный ученый Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов. Потом я работал под руководством другого ведущего ученого – Владислава Сергеевича Баранова, к сожалению, сейчас уже покойного, у нас было чувство «справедливого результата». Ему многие приносили на проверку гипотезы, не буду уж говорить, сколько членкоров и академиков, а Владислав Сергеевич честно проверял и часто говорил: «Здесь связи нет». И коллеги уходили разочарованными, потому что хотели подтвердить то, чего не было.
Недавно мы тестировали альпинистов, пишем об этом статью. Там одному 68 лет, он покорил более 40 семитысячников. И у него найдена мутация, при которой он должен быть глубоким инвалидом согласно всем канонам биоинформатического анализа. У некоторых долгожителей открывают варианты в геноме, которые фактически должны приводить их к инвалидности или смертности в 40–50 лет. Такие парадоксы создают для нас пространство для осмысления: что является доказанным фактом, а что остается открытым вопросом? Почему гипотеза компенсаторных генов имеет право на существование?
Для меня азарт в работе связан не только с научным открытием. Мы неожиданно для себя выиграли большой проект по созданию биоресурсной коллекции «Репродуктивное здоровье человека» в рамках программы развития генетических технологий. Мы вынашивали идею создания биобанков — ведь сейчас мы во многом используем западные данные — и получили поддержку проекта от экспертов, не имея больших академических званий и должностей. Еще одна история, которая важна для нас с вами, для всех граждан — нам с коллегами в сентябре удалось организовать заседание Общественной палаты по преконцепционному скринингу, то есть тестированию будущих родителей на носительство тяжелых наследственных заболеваний. Цель — не столько лечить многочисленных больных в рамках неонатального скрининга, что тоже правильно, сколько снизить заболеваемость в целом. Чтобы из популяции эта тяжелая болезнь уходила. Та же спинальная мышечная атрофия, например.
Доживем до генетических паспортов, доживем. Сегодня у нас есть технологии, есть возможности. Нам нужно принципиальное решение. Научные низы уже созрели и даже многие верхи понимают, что это нужно. Нам нужно просто рассказать обществу и убедить его в том, что идея здорового человека — это идея не лечения, даже компенсационного, как в случае со СМА, а истинная профилактика, в которой генетика как никогда сильна. Владислав Сергеевич Баранов был идеологом генетического паспорта, генетической карты репродуктивного здоровья, и это крайне важно для меня. Нам могут сказать, что мы занимаемся евгеникой, но, с другой стороны, любая профилактика, использует она генетические методы или нет — всегда немного евгеника.
Меня разочаровало геномное редактирование, на которое очень многие ставили. Прекрасная идея, но сейчас не работает. Сколько мы с коллегами прочли статей, проанализировали офф-таргет эффектов, чтобы выяснить, есть ли возможность сделать правильные конструкции! Я говорю именно о редактировании человека и не беру работы с растениями или животными, где определенные успехи есть.
Генная терапия переживает свой ренессанс. Чуть ли не 40–50 препаратов уже на подходе. Еще 3–4 года назад сравнивали, что лучше: генная терапия или геномное редактирование? Сейчас стало понятно, что генная терапия. Препараты сейчас стоят безумных денег, но ведь любое исследование стоит дорого.
Впечатлило, что геном человека дорасшифрован. Эта информация пришла в июле 2021 года, говорят, что в последней версии сборки все замечательно. Мы накапливаем результаты, видимо, для какого-то научного прорыва, поэтому крайне нужны эти геномные базы данных, к которым мы пока не готовы чисто технологически. Программа развития генетических технологий вроде как включает необходимость создания национальной базы генетической информации, но национальная база без сбора клинических и анамнестических данных, без динамического наблюдения — бессмысленна.
Если б я был всемогущ, то поставил бы на ученых, которые занимались бы организацией. Я сейчас веду курс по медицинской генетике, начал погружаться в историю и анализировать: а как вообще создавали институты, направления, наши большие ученые? Наибольшее впечатление на меня до сих пор производит Николай Иванович Вавилов, создатель уникальной коллекции семян растений. Это тот человек, который создал целое направление в науке — тогда еще! — то, что многие не могут повторить до сих пор. И организационно, и научно.
У нас долго говорили о том, что науке нужен менеджер, мы его погрузим в научные знания, и он будет эффективно управлять наукой, здравоохранением, любым институтом. Мое ощущение — нет. Мы должны растить ученых, а дальше их учить каким-то менеджерским навыкам. Я бы вернул прежнюю концепцию, советскую. Она правильная. Она позволит нам развиваться динамично и гораздо быстрее внедрять науку.
Мы связаны по рукам и ногам условиями закупок. Они мешают ученым, их нужно пересматривать.
Я бы в целом ослабил юридическую регуляторику вокруг научных исследований. Скажем, этические ограничения должны быть предметом рассмотрения этического комитета, в состав которого входили бы, прежде всего, ученые. Мы еще не подошли к таким ограничениям, как в Западной Европе, но идем. Если мы это получим, то получим «стопор» в скором времени. У нас юристы активно внедряются в науку, и я интуитивно вижу, что они продвигаются именно в ограничительных мерах. Проблема юриспруденции в подходе «лучше не сделать, чем потом отвечать». И этот принцип нужно менять. Потому что ученый — дерзкий, наглый человек, который меняет мировоззрение и порядок. Он говорит: «Я хочу сделать это». И мы должны давать ему возможность творить. Доктор Хэ, который «отредактировал» девочек, конечно, перешел грань, и я не говорю о том, что грани не должно быть. Я говорю о том, что регуляция, где какая грань — это в большей степени задача ученых и врачей, а в меньшей — юристов. У юристов есть еще одна история: ты руководствуешься каким-то нормативно-правовым актом, а он противоречит еще пяти. Это как если бы у нас было пять разных правил дорожного движения. Я говорю, что мне нравится второе и третье. А он мне говорит: нет, я руководствуюсь первым. Это огромная проблема. Путь кто-то выделит грант просто на приведение в соответствие различных нормативно-правовых актов друг другу. Правда, чем больше будет нормативно-правовая база, тем будет сложнее. Поэтому ученым и врачам нужно иметь какой-то коллегиальный орган — этический комитет или ученый совет, который давал бы возможность преодолевать юридические барьеры.
В 90-х у нас был научный голод, а сейчас у молодежи его не хватает. Они хорошо образованы, знают много проблем, у них была возможность учиться. Но приходят ко мне аспиранты и говорят: «Поставьте нам задачу». Я могу поставить научную задачу. Но у ученого где-то на подкорке должна быть инициатива, свой интерес в науке. Я долго думал — с чем это связано? И пришел к следующему. Мотивация приходит в университетах. А сейчас прошла смена поколений преподавателей. Старожилы уходят, и нам просто не хватает научно-педагогических работников, которые бы закладывали интерес в науку. Преподавателей привели к тому, что они все время должны тратить на преподавание и бумажную работу. А если педагог не выполняет научную работу, как он заразит научным поиском студента? Да никак. Мне кажется, что лучше пусть даже 25–35-летние специалисты будут учить студентов, чем те, кто сейчас является педагогами.
Я был в Брно, где работал Мендель. Монастырь стоит на самом высоком месте в городе, а там маленький садик вокруг церкви. Я представил: ты монах, у тебя в распоряжении этот садик — там невозможно не заниматься наукой! И нам нужно продолжать строить институты и университеты. И не где-нибудь на болоте, где невозможно продать недвижимость, а на самом видном месте. Я всегда гордился своим университетом, он находится в центре города. И всегда меня впечатляла красота МГУ. Эта красота стимулирует ученых заниматься красивой наукой.
Нам не хватает грантов на безумные идеи. Но для безумных идей нужны безумные ученые. Поэтому нужно много грантов для молодых ученых. Укрупнение научного финансирования, как мне кажется, здесь приносит вред. Ты можешь объявить 10 крупных грантов, и все деньги уйдут в песок. А можно объявить 10 тысяч маленьких грантов, и один из них даст тот результат, который никогда не будет достигнут, если будешь финансировать много, но мало. Я мечтаю, если у меня будут финансовые возможности, объявлять собственные гранты. Мне очень хочется, чтобы у молодых ученых был шанс попробовать реализовать те идеи, которые у нас были с профессором Барановым по вопросам предикции, по вопросам генной терапии. Я на ближайшие 5 лет ставлю задачу создать центр генетических экспертиз. Центр, как эндаумент-фонды, аккумулировал бы гранты для пилотных проектов и для молодых ученых. Вот пилотный проект по неонатальному скринингу по СМА неплохо получается. Мы сделали разработку и внедрили ее через пилотный проект. Надеюсь, доведем до продукта в виде диагностического набора, и эту технологию передадим нашему городскому здравоохранению, может быть, и другим коллегам. И я хочу, чтобы таких пилотных проектов в рамках центра генетических экспертиз было много. Схема, когда федеральное учреждение создает ноу-хау, а потом доводит его до реального продукта, потом выполняет пилот, потом внедряет в здравоохранение и получает дивиденды с продажи этого набора и финансирует новые пилотные проекты — моя мечта. Чтобы работало так, как работает во многих цивилизованных странах.
Ученый получает деньги на свои желания, но если все наши желания сбудутся, то у нас не будет денег.
Я бы хотел, чтобы в идеальном мире мы искоренили проблемы и недуги, которые у нас сейчас есть. Тот генетический груз, который мы сейчас накапливаем. Должен быть сформирован баланс между профилактикой и лечением болезни. Я надеюсь, что через 50 лет у каждого человека будет свой отсеквенированный геном, своя индивидуальная программа генетического развития. Такая программа не является полностью детерминантной, она не стопроцентно характеризует наше здоровье. Ведь как только мы человеку говорим, что у него все предрешено, то кто-то отказывается тестироваться, чтобы не знать, что у него предрешено. А кто-то опустит руки после тестирования и не будет влиять на свое здоровье, что тоже крайне вредно. Еще я думаю, что через 50 лет у каждого из нас будет свой биобанк своих тканей. Мы будем явно жить дольше. У нас появится биовалюта, которая будет связана с обменом биообразцами, тканями, биотехнологическими продуктами друг с другом. Это, а не криптовалюта будет определять развитие финансового рынка пусть не через 50, а через 100 лет. И каждый человек будет иметь в запасе у себя множество органов, тканей и клеток благодаря этой биовалюте.
Первое и самое главное правило для любого ученого — должен быть научный азарт. Второе: никакое открытие не может быть только фундаментальным или практическим. Фундаментальное — это такое, которое к практике приведет не сразу. И не бывает больших или маленьких открытий. Чем бы ты ни занимался, любая научная деятельность — это созидание. Ценен любой твой шаг в этом созидании. И третье — надо быть в научных исследованиях честным, прежде всего перед самим собой. Один раз ты нарушишь это правило, и после этого перестанешь быть ученым.


 Меню
Меню





 Все темы
Все темы






 0
0