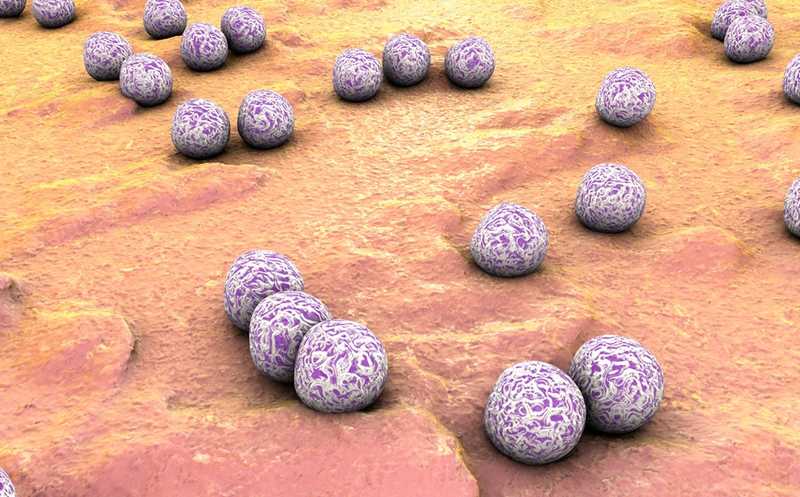Виктор Малеев: «Всю жизнь преодолеваю трудности»
Все люди, о которых мы рассказываем в этой рубрике, совершенно удивительные. И все удивительны по-своему. Академик РАН Виктор Васильевич Малеев, советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, — человек большой скромности, обаяния, доброты и еще чувства юмора.

Никогда точно не поймешь, когда он шутит, а когда серьезен. Наше знакомство когда-то началось с его вопроса: «А книжку обо мне вы читали?» Я растерялась — о такой книжке я не знала. «Ну как же! — возмутился академик без тени улыбки. — “Витя Малеев в школе и дома”. Вы должны были эту книжку еще в детстве прочитать!» Тут я и вспомнила замечательную повесть Николая Носова, где главный герой, действительно, полный тезка Виктора Васильевича.
Но жизнь этого, в общем-то, вполне благополучного московского школьника мало похожа на то, что довелось пережить будущему академику. Много раз он оказывался на грани жизни и смерти и выжил, по его собственным словам, только чудом. При этом его судьба наполнена великими событиями — чего только стоит борьба с холерой и чумой! Воспоминания академика Малеева не просто интересны — это важный документ о времени, о людях и о себе.
Военное детство
Меня следует относить к поколению детей войны. Я родился на Украине, в Мелитополе. Появился на свет за 11 месяцев до начала войны, в июле. Уже в первые дни войны началась эвакуация. У меня была еще сестра от другого отца, старше меня на 13 лет. Папу забрали на фронт, мы с мамой и сестрой поехали в эвакуацию.
Долго ехали: тогда ускоренная эвакуация населения проводилась в товарных вагонах. Я заболел, кажется, корью, нас ссадили, потом мы долго не могли сесть в поезд. Привезли нас в Ташкент, а там было все занято эвакуированными. Мы поехали в Андижан, где несколько семей поселили в одну комнату. Мы спали на полу, кроватей не было. Сестра работала на фабрике, а мама грузила вагоны. Надорвалась, у нее обнаружили грыжу, поместили в больницу, а меня забрали в детдом. Потом мама боялась меня оттуда забирать — кормить-то нечем, а там хоть как-то кормят.
Я болел без конца, как говорила мама: малярией, менингитом, лейшманиозом, кишечными инфекциями, чесоткой. В детдоме у детей часто выявляли вшей, лечили от глистов, подозревали туберкулез. Вероятно, поэтому я и стал инфекционистом.
Из-за болезней и недостаточности питания я отставал в развитии, был дистрофиком, еле выжил. В семь лет меня в школу не взяли, сказали, что слабый, мой вес тогда был 20 кг. Я еще хотел в Суворовское училище поступить, там лучше кормили и одевали. Отец мой погиб на фронте, и меня могли взять, но отстранили по состоянию здоровья.
В восемь лет я из детдома ушел и пошел в школу, однако каждый год на каникулах и даже в период учебы направлялся в туберкулезный санаторий или в так называемые лесные школы. Школа помогала — пальто вот покупали. Мама работала за копейки, крутилась как могла. Но все равно я постоянно голодал. Помню, мать мне оставляла хлеб, посыпала сахаром — больше ничего не было.
Был у нас горшочек с сахарным песком, и я хлеб съедал, а сахара еще хотелось, но я тогда не понимал, что, если берешь что-то пальцами, надо стряхнуть, чтобы не было видно. Мама всегда замечала, что я брал сахар, ругалась.
«Это был провинциальный город, что там еще можно было делать? Только учиться»
Учился я хорошо, школу закончил с золотой медалью. В этом регионе каждую осень школьников привлекали к сбору хлопка. Собирать хлопок, особенно нераскрытый в коробочках, — это тяжелый труд. Собирали как сам хлопок, так полураскрытые коробочки и даже полностью закрытые, вообще из-под снега. Остающиеся ветви кустарника тоже удаляли.
Хлопок в полураскрытой коробочке называется кусак, в полностью закрытый — курак. Я все это знал, у меня даже была грамота ЦК комсомола республики за сбор хлопка. Нам уже со второго класса привозили в спортзал эти полураскрытые коробочки, сажали нас, и мы должны были их раскрывать. Часто вместо учебы это делали. Вот так и учились. А летом еще и на прополку посылали.
Мы со второго класса учили узбекский язык. Да и вообще — когда ты ездишь на хлопок, общаешься, поневоле начинаешь разговаривать на узбекском. В школе была странная ситуация: чтобы получить золотую медаль, мне надо было написать сочинение на узбекском языке. Я писал по произведению «Фархат и Ширин» Алишера Навои. У меня дома это сочинение долго хранилось.
После окончания института я еще работал с узбеками в кишлаках — конечно, его нельзя было не знать. Я до сих пор помню многие узбекские слова. Иногда мне это очень оказывается кстати. Привезут гастарбайтера, а русский он плохо знает, объяснить не может, где болит, — зовут меня.
У меня в школе хорошо шла математика, учителя рекомендовали дальше поступать в профильный вуз. Были мечты учиться в Москве, но денег даже на дорогу не было. Мне посоветовали поступать в Ташкентский политехнический институт, но комиссия отстранила меня из-за плохого зрения. Кроме того, я не понимал, как я буду содержать маму на студенческую стипендию.
Кончилось тем, что я вернулся в Андижан, где в то время было три высших учебных заведения: педагогический, институт хлопководства и недавно открывшийся мединститут. В тот год, в отличие от предыдущего, когда с золотой медалью достаточно было лишь собеседования, требовалось сдавать все вступительные экзамены. Конкурс был очень большой, помню, что надо было набрать 20 баллов, что мне и удалось. С 19 баллами принимали условно — поедешь на хлопок, получишь шанс поступить. Такой был «резерв».
Уровень образования в Андижанском медицинском институте был тогда довольно высокий. Когда создавали новые институты в республиках, присылали людей из центральной России. Когда СССР распался, люди разъехались, но в то время в институте были очень квалифицированные преподаватели. Например, хирургию преподавал профессор Ясногородский, известный на всю Россию, занятия вел физиолог Коротько, анатом Морденштейн. Нас отлично учили. Это был провинциальный город, что там еще можно было делать? Только учиться. Даже телевизора не было. Из отвлекающих моментов только радио. И я учился с утра до ночи. Меня после окончания института оставляли на нескольких кафедрах.
В тот период я понимал, что для хорошего врача важно иметь подготовку по широкому кругу специальностей. Хирургии я боялся, потому что физически был слаб. В акушеры-гинекологи тоже оставляли: у меня маленькая рука, я мог делать ручное обследование матки, что мне удалось еще на практике. Вообще, всю свою учебу я летом никогда не отдыхал на каникулах, потому что нужны были деньги, и меня после практики, когда все другие студенты уезжали, оставляли работать.
«Куда хотите? — В Обнинск. — Ну, тогда в Калугу»
Я с отличием окончил институт. Проректором был кандидат наук, который решил, что ему нужен ученик, способный набирать материал и помогать писать ему докторскую диссертацию. Избрал на эту роль меня. Но если ты идешь после окончания института в клинику, ты должен проходить ординатуру, ты не можешь сразу стать аспирантом. Если же ты поступаешь по неклиническим дисциплинам, можешь сразу стать аспирантом. Например, микробиология или биохимия — там ты с людьми не работаешь. Но руководитель в нарушение общепринятой практики сразу сделал меня аспирантом.
Формально была «дружба народов», а на деле говорили: «Что вы сюда понаехали!» Как будто я нарочно туда приехал. Но я зла ни на кого не держу. Я многим узбекам помогал, диссертации некоторым писал, опекал их. Я сейчас почетный профессор Андижанского медуниверситета. Там двое таких — Ренат Акчурин и я. Он крымский татарин, его родителей туда сослали, и он там учился. Правда, он с какого-то курса уехал в Москву, окончил Первый мед, кардиохирургом стал, а я там закончил. Его отец был директором школы в Андижане, а у меня там никакой поддержки не было.
В общем, я решил выбираться из Узбекистана. Меня интересовала клиническая генетика. Тогда начался ренессанс генетики — в 1964-м после лысенковского разгрома. В Обнинске работал недавно открытый институт медицинской генетики. Я решил туда поехать. Но сразу не уехал — тогда после окончания института не выдавали диплом: год работай, а потом тебе дадут. Так что сразу после получения диплома я отказался от аспирантуры, сказал, что мама болеет (а она и правда болела), и решил ехать в Обнинск.
Приехал в Москву. У меня был диплом на руках, отрабатывать я не был обязан, мог вообще остаться в Москве участковым врачом и пользоваться преимуществами столичного жителя, что тогда было мечтой многих. Но я надеялся на перспективу и мечтал только о научном будущем. Поэтому обратился на Вотковский переулок, где тогда был Минздрав РФ, а сейчас Роспотребнадзор России. Меня спрашивают: «Куда хотите? — В Обнинск. — Ну, тогда в Калугу».
В Обнинске интереса ко мне не проявили, но теперь я понимаю, почему: выглядел я не очень солидно, одежда была простецкая, не современная. Мне сказали: «У нас прописки нет, можете работать рядом, потом посмотрим».
Из Обнинска я поехал в Калугу. Облздрав направил меня в Ферзиковский район, в Дугнинскую участковую больницу. Рабочий поселок Дугна расположен недалеко от Тарусы, на стыке Тульской и Калужской областей. Когда-то там работал чугунолитейный завод, его Петр Первый основал на берегу Оки.
«Если это не аппендицит, вы будете оплачивать стоимость перелета»
Шестидесятые годы прошлого века были очень тяжелыми для населения провинциальной России из-за дефицита продуктов и товаров для повседневной жизни. После Хрущева — полный развал, продуктов не было никаких. Мне из Средней Азии мама с сестрой присылали продукты. Ферзиково — центр района, там более-менее. Поселок был расположен за Окой, связь с райцентром отсутствовала в период разлива реки и неустоявшегося льда.
В больнице работало два врача: главный врач, он же хирург, и терапевт, пожилой человек. Спрашивают: «Кем хочешь работать? Есть две необходимые вакансии — педиатр и гинеколог, инфекционист нам не нужен».
Тут надо сказать, что мама, желая, чтобы я не отвлекался от учебы, остерегалась моего общения с девушками. Такое у нее было мнение: это мужчин губит, я не смогу закончить учебу. Надо достичь всего сначала, а уж потом… Пока не достиг, жениться не должен. В Средней Азии, если я видел, что по этой стороне дороги идет девушка, я переходил на другую сторону, настолько пугался — еще влюблюсь…
В общем, решил быть педиатром — от женщин подальше. В Средней Азии детское население преобладает, и в тех условиях дети болели очень часто, по этой специальности я имел хорошую практику. В институте не было педиатрического факультета, был только один — лечебный, но, поскольку я с отличием окончил институт, педиатрию знал.
Хирург вскорости уехал на повышение квалификации, и я остался главным врачом этой больницы. Терапевт не всегда был активным, поэтому мне приходилось работать с утра до вечера.
Меня поселили в большую избу, воду коромыслом приходилось носить из отдаленного колодца, туалет во дворе. Я один, семьи нет, надо все самому — и готовить еду, и убираться. Я к больничной прачке встал на квартиру. Она была рада, потому что ей за меня платили — дрова привезли, еще что-то давали.
Приехал я летом, дело идет к зиме, но топливо больнице не выделили, транспорта не хватает. И я поехал скандалить в райцентр за 14 км от этой Дугны — что же вы больницу оставляете без отопления, безо всего… Я после себя, кстати, оставил там молочную кухню. Меня решили избрать в райком комсомола, я же был комсомолец. Раз я такой активный, чего-то говорю, спорю, добиваюсь — значит, могу!
Дети болели, как обычно. Простудные болезни, кишечные, корь… Через Оку на лето перекидывали временный понтонный мост. Автобус ходил в Дугну, пока понтон был, при отсутствии только до берега. Когда река разливалась, или, когда еще лед не встал, как перебраться? А у пациента подросткового возраста клиника аппендицита. Надо оперировать. Звоню в райцентр: дайте хирурга! Мне говорят: можно только самолетом. Но если это не аппендицит, вы, дескать, будете оплачивать стоимость перелета. Что делать — присылайте!
Приехал хирург, я ему ассистировал. Прооперировали, аппендицит подтвердился, а то я бы совсем без денег остался, так как еще маме деньги посылал. Тогда неплохие зарплаты у врачей были.
Остальное я все сам делал — раны зашивал, переломы лечил, роды принимал, хотя раньше у меня такой практики не было.
Потом меня заставили труп вскрывать. Хулиганство, пьянство и поножовщина была сплошь и рядом. А надо понять причину смерти. Но чтобы вскрыть труп, надо открыть три полости — живот, грудь и череп. Представляете — впервые надо вскрыть труп, никогда этого не делал! Правда, это не операция, но тоже стресс, если делаешь это в первый раз.
«За продуктами — в Москву»
В этот период в райцентре работала районный педиатр, а я был зональным. Вызывали меня туда на конференции, она ко мне тоже приезжала на проверку. И в результате она оказалась моей женой. Не спасла меня педиатрия.
Она была очень квалифицированным специалистом, да и сейчас им остается. Самые квалифицированные педиатры в Москве кончали Второй мед. Ходил я к ней на свидания четырнадцать километров по шаткому льду.
Мама у меня была умная женщина, несмотря на отсутствие образования. Она понимала, что мне уже нужно самостоятельным становиться. Я ей сразу не сказал, но потом пришлось признаться, когда решил жениться.
Не знаю, что будущая жена во мне нашла. Это же не поддается анализу. Как она потом сказала — не видела, чтобы так квалифицированно писали истории болезней. Она из города Подольска Московской области, жила с отцом и матерью в трехкомнатной коммунальной квартире, но комнаты отдельной не было, жить нам было негде. Мне прописку не давали: калужская была, а подмосковной — нет.
И мы решили работать из-за прописки в Быковской амбулатории в поселке между Щербинкой и Подольском Московской области. Меня назначали руководителем врачебной амбулатории: теперь она стала у меня в подчинении работать — педиатром, я заведовал. Сын родился.
И тут у меня кровоизлияние в глаз случилось. Пятьдесят килограммов картошки надо было поднять, а во мне самом нет 50 кг. Но посадили картошку — надо собирать.
Жили мы вначале в доме, который назывался «Курский вокзал» — 20 комнат и единственный туалет, с утра до вечера очередь, и круглосуточное обращение к врачу: скорая помощь поселок не обслуживала. Я хотел продолжать работать доктором общей практики, но жена была более рациональной и настаивала на моем продвижении и переезде в Москву.
В тот период мы по выходным ездили за продуктами в Москву и останавливались у ее родственницы: приезжали рано утром, становились в очередь, покупали дефицитные для Подмосковья продукты, оставляли у родственницы, бежали в следующий магазин, нагружались и, довольные, торопились на электричку. Так жило тогда большинство населения — мы считали, что это неплохо в сравнении с отдаленной Россией.
«Предстоит ездить в командировки, ты не выдержишь»
Жена всегда говорила, что мне надо повышать квалификацию и заниматься наукой. Я тоже не оставлял попыток: сдал кандидатские минимумы, и в этот момент известный академик Кассирский объявил аспирантуру по клинической генетике, чем я и хотел заниматься. Я не думал уже быть инфекционистом, читал много литературы по генетике и для конкурса в аспирантуру подготовил реферат по гликогенозу (болезнь Гирке).
Пришел подавать документы — а мне говорят, что это место объявили не для меня. «Можете, конечно, подавать, но шансов нет». Прямо так не сказали, конечно, но дали понять.
В общем, в аспирантуру меня не взяли. Но все же думаю: наукой надо заняться. У дальней родственницы жены в Москве была соседка, которая работала врачом, когда-то помогала писать диссертацию Валентину Покровскому: такое случайное совпадение.
Позвонили ему — я приехал, он посмотрел, что я не военнообязанный, по болезням веса не добрал. И говорит мне: «Да я тебя брать не буду, ведь предстоит ездить в командировки, ты не выдержишь». Я ему принес реферат, который написал для генетиков. Посмотрел — оценил и взял младшим научным сотрудником.
У меня раньше была зарплата 210 рублей, а тут только 90. Если раньше за жилье и все коммунальные услуги нам платил сельсовет, то теперь едва стало хватать на еду.
Тяжело было также потому, что ехать до работы надо 2,5 часа с тремя пересадками, а нередко и добираться пешком 3-4 км до поселка. Тем не менее первые полгода после работы я по много часов практически до закрытия работал в Медицинской и в Ленинской библиотеках: это было важно, чтобы войти в проблему и выявить перспективные направления по специальности. Уже тогда я осознал необходимость избегать ограниченного подхода и вникал в смежные направления — новизну чаще можно обнаружить на стыке медицинских специальностей.
Именно в этот период у меня родилось множество идей, часть из которых удалось реализовать на протяжении моей научной жизни. Но другие, которые представляются перспективными, осуществить было трудно из-за проблем развития научных исследований в период распада СССР: дефицита реактивов, нового оборудования, невозможности привлекать молодежь, поиска средств на содержание семьи.
Примером перспективного направления, которое в будущем, возможно, откроет новый взгляд на патогенез шока и других угрожающих состояний для жизнедеятельности организма, является оценка газового состава циркулирующей крови, а вероятно, и других водных пространств. Напряжение кислорода и углекислого газа здесь уже хорошо изучено, но ведь основной газ все-таки азот, напряжение которого должно значительно влиять на тонус сосудов и динамику кровотока как в норме, так и в критических состояниях.
Общепринято, что тонус сосудов регулируется центральной нервной системой, но в организме не может быть виноват один фактор. О роли газов в легочной вентиляции известно из исследований академика А.Г. Чучалина, однако их влияние на сосудистый тонус и тканевой гомеостаз остается загадкой, разгадка которой позволит управлять сосудистым кровотоком в критических состояниях.
Полиионные растворы
Одна из важных для практического здравоохранения проблем, которую мне удалось реализовать, связана с разработкой и внедрением в широкую практику полиионных растворов. В больнице «Соколиная гора», когда я пришел туда впервые в 1968 году, взрослым мужикам жидкость вводили подкожно, как и сто лет назад. Необходимое внутривенное введение больным кишечными инфекциями даже при больших потерях жидкости тогда считалось рискованным: не было одноразовых систем, многоразовые резиновые системы сыпались, были страшные ознобы, их боялись. Внутривенно вводят — ознобы, подкожно — вроде нет.
Я первым стал вводить внутривенно, за что меня хотели судить, потому что после этого был озноб. Потребность в коренном пересмотре всей инфузионной тактики лечения была вызвана уникальной ситуацией, наблюдаемой прежде всего при холере, когда больному для регидратации необходимо замещать десятки литров жидкости только внутривенно, а в критических состояниях и внутриартериально. Растворы должны были соответствовать электролитному составу водных пространств организма и поэтому не могли быть односолевыми. Ранее их приходилось вводить в ограниченном объеме на фоне неблагоприятных побочных реакций.
Для поиска оптимального состава комплексного раствора приходилось изучать солевой спектр выделений больного, содержащих большое количество микроорганизмов, что было рискованно в плане заражения. До наших исследований подобные растворы впервые применялись при эпидемиях холеры в Индии и Бангладеш, однако их состав не соответствовал особенностям нарушений при холере в наших условиях.
До 70-х годов прошлого века в России для внутривенного введения еще со времен С.П. Боткина применялись растворы, содержащие в основном лишь хлорид натрия: физиологический раствор, раствор Рингера, введение более 1-2 л которых значительно нарушало водно-электролитное равновесие и не могло устранить потери.
Когда я начинал, были только растворы, где одна-две соли. Но организм теряет с жидкостью одновременно много солей при ряде заболеваний. В СССР в то время полиионные растворы вообще отсутствовали в отечественной фармакопее, а сейчас они уже несколько десятков лет применяются не только при инфекционной патологии, но и в процессе интенсивной терапии во всех клиниках.
Когда я прихожу на консультацию в эти больницы, рекомендую полиионные растворы и говорю, что я их изобрел, доктора удивляются: «Мы их давно уже применяем!» И здесь я начинаю понимать, как быстро течет время.
До изобретения этих растворов нельзя было даже представить, что больным можно без осложнений в короткое время вводить такой большой объем растворов внутривенно. Моя докторская посвящена как раз этому. Просто уникальные вещи: у меня была женщина, которой я 110 литров жидкости ввел в течение пяти суток, но и потери у нее были большие. Причем этот раствор можно вводить в поле без анализов — там это и невозможно. Мне удалось апробировать такую методику терапии впервые в СССР. Просто этот раствор сделан так, что в 60–70% случаев его можно вливать без контроля. Какому-то количеству людей нужен контроль – это я сразу вижу.
Холера
В Кении, в городе Кисуму, в период крупнейшей эпидемии приходилось спасать от смерти сотни холерных больных. Они там лежали прямо на улице — кожа и кости. У нас на улице все-таки не лежали. Черные, обезвоженные — страшно смотреть, и при отсутствии пульса и давления кажется, что все твои усилия бесполезны. Переворачиваешь его — а кожа прилипает к земле. Мне нравилось вливать им раствор и видеть, как жидкость заполняет ткани, и жизнь возвращается прямо на глазах.
Если говорить о необходимости лабораторного контроля при интенсивной терапии, то сейчас есть наборы — не надо возиться с реактивами, все результаты биохимических исследований сразу видны на экране прибора. Но в то время биохимию надо было делать по набору реактивов, последовательно добавляя их в пробирки. Я осваивал все с нуля: будучи в аспирантуре, был и микробиологом, и биохимиком, и все мог делать сам. А сейчас диссертанты анализы поручают делать лаборантам.
В сравнении с современными диссертантами — приходилось без помощников одновременно больных курировать, анализы делать самостоятельно и дважды в месяц работать на суточных дежурствах. Для инфекциониста, помимо клиники, важно также осваивать микробиологию, паразитологию и биохимию не только теоретически, но и с приобретением навыков самостоятельных исследований.
Почему меня потрясла холера: Чайковский умер от холеры, Ива́нов, который писал «Явление Христа народу», мать Чайковского и многие великие люди. Я столкнулся с этой проблемой, еще проходя летнюю студенческую практику в Средней Азии, когда наблюдал высокую смертность детей раннего возраста от обезвоживания при кишечных инфекциях. Тогда в Узбекистане не было специальных иголок-«бабочек», но в вену маленькому ребенку нельзя вводить большую иглу, поэтому жидкость в основном назначали в виде питья, и в ходу были только два раствора: 5%-ная глюкоза и физиологический раствор. Ребенок терял большое количество жидкости, при этом летом из-за жары потери возрастали, требовалось срочное их возмещение.
Рекомендованные ранее методы лечения были неэффективны: питье глюкозы не возмещало солевые потери, возникало вздутие живота, из-за избытка углеводов усиливался понос, а питье физраствора приводило к избытку соли, осмотической диарее, нарастанию чувства жажды. При отсутствии специальных игл приходилось вводить жидкость подкожно в бедро большой иглой под давлением шприцом Жанэ.
На это было страшно смотреть даже медработникам: ребенок орет, мать рыдает, это мучение эффекта практически не дает и кончается тем, что ребенок ночью умирает, а в Средней Азии надо тут же хоронить — они не могут ждать, и среди ночи идет крик во всей больнице. Детская смертность тогда в Средней Азии была такой же высокой, как и в Африке. Такое несовершенство медицинской помощи детям не давало мне покоя многие годы, пока к 80-м годам мне не удалось создать адекватные потерям растворы и разработать методику комплексной терапии острых кишечных инфекций и нарушений водно-электролитного обмена при другой патологии, что позволяет сохранить жизнь многим детям. В настоящее время этим методам нет альтернативы.
Многие исследования и усилия по внедрению их в практику потребовались для разработки оральной регидратации, которая более физиологична по сравнению с парентеральной, если рвота не частая или прекратилась. Мне удалось создать оригинальную пропись орального раствора, порошковый состав которого сейчас в аптеках продается под названием «Регидрон» и аналогов которого в нашей стране тогда не было.
Мои исследования того времени по борьбе с младенческой смертностью от самых распространенных в мире кишечных и респираторных инфекций оказались созвучны глобальным направлениям и составляли суть основных программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), экспертом которой я был несколько десятков лет. Помимо разработки растворов необходимо было организовать центры оральной регидратации, поддержки грудного вскармливания, питания детей, вакцинации. Такие центры я и мои ученики организовывали в республиках Средней Азии, в Астрахани и других регионах с наибольшей младенческой смертностью.
«На холере платили в сутки по пять-двадцать…»
После холерной вспышки в Астрахани меня заставили писать книжки и диссертации великим людям. Потом внезапно умирает в Сомали советский генерал, наш военный советник, от холеры. Тогда там была военная миссия: Сомали воевала с Эфиопией, и везде присутствовали наши военные советники.
Наш генерал жил рядом с президентом Сомали; и этот генерал умирает от холеры, следом наши заболевают. А сомалийцы говорят, что это «ваша» холера, завезенная. Срочно меня туда высаживают, и мне пришлось организовать там стационар в специально снятой посольством вилле — около сотни офицеров болели холерой.
На вилле были я и уборщик, я больным еду возил, раздавал, сам из этой тарелки ел. Там солнце палило — вынес на солнце, кипятком тарелку ошпарил и ел. Капал им жидкость, лечил их.
Болел ли я сам? Может быть. Я постоянно болел поносом в Средней Азии, потому что пил арычную воду, там не было водопровода. Фрукты зеленые срывал, не стерилизовал, конечно. Может, выработался иммунитет — я не проверял.
Потом стал ездить на холерные прививки. Я говорю: кому холера, а кому мать родная. Мне — мать. Представьте себе: у меня зарплата 90 рублей, денег не хватает на проживание, подработка нереальна. А на холере платили в сутки по пять-двадцать, и кормили, и премии давали, и все удовольствия в связи с интересной работой. Диссертация у меня была посвящена холере и холероподобному течению кишечных инфекций, она сохраняет свою актуальность до настоящего времени, хотя прошло уже больше 40 лет. Холера в мире побеждена не будет. Конечно, главное не в этом, а то, что я людей спасал, и это представляется мне более значимым.
Напряжение кислорода в крови
Но не холерой единой. Другая идея пришла мне в голову неожиданно, и ее реализация оказалась полезной и востребованной не только при инфекционной патологии. Этому предшествовало появление в институте зарубежного аппарата «Микроаструп». Раньше мне было непросто определять напряжение кислорода в крови — были возгонки, склянки, банки, система Варбурга, тогда так определяли его рутинными методами с отложенным получением результатов. А здесь — экспресс-полуавтоматическая диагностика при минимальных затратах: берешь капельку крови из пальчика в капилляр, вставляешь в прибор – и через несколько секунд видишь уровень кислорода в крови.
Меня это потрясло, и я решил определять не только капиллярную кровь, но и артериальную, венозную, став первым в стране, кто определял кислород в спинномозговой жидкости во время пункции: это же было так интересно узнать и расширить возможности аппаратуры!
И здесь мне ударило в голову: надо в моче посмотреть! Но оказалось, что это надо делать, когда катетер ввели. Или сейчас в реанимации мешки висят, откуда можно взять — он закрытый, воздух не попадает. Сейчас судят о почечной недостаточности по уровню креатинина и мочевины в крови, которые являются продуктами распада белковых соединений. Когда почки не работают, в крови значительно нарастает их уровень. Но все это происходит не сразу, если прошел час-два — у тебя не будет повышения ни креатинина, ни мочевины, хотя сокращенное мочеотделение сохраняется, и трудно только по этим показателям прогнозировать обратимость процесса и необходимость переходить на гемодиализ.
А вот по напряжению кислорода в моче, оказывается, сразу можно определить, почка функционирует или нет. Потому что кислород откуда берется в моче? Из крови. Ты можешь и без креатинина и мочевины на более ранних этапах по напряжению кислорода в моче увидеть, что почка не кровоснабжается, и начинать интенсивную терапию без необходимости гемодиализа. И что еще более полезно: когда в крови высокое содержание креатинина и мочевины, но после перерыва пошел кислород, то можно не переводить на гемодиализ, потому что креатинин и мочевина снижаются не сразу. Время должно пройти, чтобы они распались. И ты можешь предсказать, что моча пойдет: если уже первая порция имеет кислород — значит, будет все нормально.
У меня в Ижевске пять или шесть диссертантов. Когда приезжаешь, говорят: «Что у нас тут есть? Есть “геморрагичка” (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) и автомат Калашникова». Две достопримечательности. Там самая большая заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в России. При этом почки страдают. Я ребятам предлагаю: давайте доведем этот вопрос до ума. И они сделали авторское свидетельство с моим участием по определению напряжения кислорода в моче в динамике. Теперь мне звонят из института пересадки органов, говорят: спасибо вам за эту работу! Когда почку новую поставили, часто пунктируют, чтобы посмотреть, жива она или нет, а здесь по капельке мочи все видно.
Потом читаю в новостях, что в Австралии нашли новый метод оценки функции почек — по определению напряжения кислорода в моче. Я иду к своему патентоведу, говорю, что это у нас авторское. Оказывается, это не международное авторское, а отечественное. Вот как! «Переоткрыли» наш метод.
Чума
Валентин Иванович Покровский решил сделать меня замдиректора института по клинической работе. Мне было 38 лет, и мне сказали, что я не имею на это права, пока не стану партийным. При этом один год ты кандидат в партию — сразу не брали. Меня направили в институт марксизма-ленинизма, чтобы я там учился. Кончилось тем, что я на эти заседания посылал жену. Я хотел заняться написанием докторской, но диссертацию мне писать долго не удавалось: командировки, эпидемии, консультации больных.
Потом началась моя история с чумой. Во Вьетнаме обнаружилась какая-то особенная разновидность чумы. В США, в Монголии есть пустынная чума; а есть морская, океаническая — достаточно доброкачественная — на Мадагаскаре, во Вьетнаме. Особенно это проявлялось в южном Вьетнаме в период оккупации, когда американцы там стояли — вьетнамцы жили в хижинах, ели грызунов, крыс.
Вообще существует три клинических варианта чумы: бубонная, легочная и септическая. Чума бубонная самая частая, более доброкачественная — когда недалеко от н места внедрения возбудителя образуется увеличенный воспаленный лимфоузел, он и называется «бубон». Чаще в нижних конечностях, потому что блоха, передающая возбудителя, прыгает невысоко, но у детей в хижинах бывают шейные и подмышечные бубоны, потому что погибшие от чумы грызуны падают с крыши, ведь дома там делают из бамбука.
Я видел, как на доктора, который записывал историю болезни, падала сверху крыса. Там целые деревни, где эти бубоны у людей. У местного населения от повторных укусов зараженных блох вырабатывается иммунитет, бубоны склерозируются, но в них возможно сохранение чумной бактерии.
Если у человека ослабевает иммунная защита, возможна генерализация инфекции в виде легочной чумы, которая может передаваться другим людям воздушно- капельным путем. От эпидемий чумы в прошлом погибали сотни миллионов людей на всех континентах. Известна Юстинианова чума в средние века, когда пол-Европы вымерло.
Меня посылали во Вьетнам по сотрудничеству и совместной работе с местными врачами в очагах опасных инфекций, включая чуму, где мне представилась возможность видеть редкие варианты чумы – например, чумной менингит, чума слезного мешка.
«Мне тогда напомнили о расстрелах при Сталине»
Как с этим боролись? Антибиотики есть, слава богу. В Индии в 1993 году зарегистрировали эпидемию чумы в виде бубонных и легочных вариантов. Объявили карантин, регулярные авиарейсы туда отменили, ряд стран готовился эвакуировать свои посольства, российское ограничило свою работу, наблюдались панические настроения среди семей сотрудников.
В первые три дня умерло 80% больных с легочной чумой, которых я смотрел. Пришлось надевать защитные костюмы, тогда они были многослойные и не приспособленные к жаркому климату. А еще был случай чумы в Четвертом управлении Минздрава в Москве.
Мне тогда напомнили о расстрелах при Сталине. Ситуация такая: приехал ветеран-коммунист из Вьетнама, это был конец 1980-х. Брежнев пригласил нескольких коммунистов отдыхать в санаторий в Крыму. Их поселили в гостиницу «Октябрьская» в Москве и стали брать анализы крови, чтобы санаторную карту заполнить.
Вдруг один из них начинает лихорадить, кашлять, его госпитализируют в больницу Четвертого управления в тяжелом состоянии, обнаруживают у него застарелый увеличенный паховый лимфоузел и диагностируют пневмонию.
К счастью, в то время там работала врач, которая когда-то в Астрахани видела чуму. И она поставила диагноз: «легочная чума», которая могла развиться из первичного бубона у престарелого больного в результате переезда и изменения климата. Покровского в Москве нет, вызывают меня. А я был во Вьетнаме, видел, говорю: да, это чума.
Сразу паника, мероприятия, в Минздрав вызвали. Говорят: «Что вы такое говорите, чума в Четвертом управлении! За одно это в сталинские времена вас бы расстреляли!» И, мол, если вы и эта женщина умрете, то это чума, если нет — не чума. Потом показали в лаборатории мазок, там были чумные палочки. Сказали, что они просто похожи на чумные, а на самом деле это какие-то стрептопалочки.
Я всех людей, которые контактировали с этим больным, поместил в нашу инфекционную больницу. А этот больной умер — его похоронили по всем правилам чумы, залили бетоном, засыпали известью, все как положено. Эти люди не заболели, потому что я давал им антибиотики.
Покровскому велели написать, что это простая пневмония. И бубон, и пневмония так не бывает, чтоб два таких диагноза сразу. Политика!
Хламидия на постном масле
Я все время был связан с политикой: часто выдавали за инфекцию, когда инфекции нет, а мне приходилось отвергать, спорить. Проще всего сказать при любых социальных проблемах, что это инфекция и мы не виноваты.
Вот, например, в Одессе такая ситуация: тогда была актуальна проблема хламидиоза, при котором чаще всего диагностировали пневмонию и поражение половых органов. В то время в нашем институте впервые защитил докторскую диссертацию по хламидиозу врач из Запорожья, и тут в Одессе люди с непонятными симптомами: слабость, лихорадка, раздражение мочевых путей, повышение давления, субфебрильная температура.
Удовлетворенный успешной защитой, доктор сообщает, что это хламидиоз, и, как он предсказывал, теперь люди будут болеть им чаще. Но, несмотря на его рекомендации по лечению и профилактике, количество больных нарастает, состояние их не улучшается, наблюдаются летальные исходы, причина которых неясна.
Минздрав встревожен, инфекция представляется непонятной, высказывается теория о влиянии озоновых дыр, о риккетсиозной инфекции. Командируют меня и риккетсиолога, которая отвергла этот диагноз и вскорости улетела, пока было возможно из-за погоды. Тогда, глубокой осенью, в Одессе была так называемая «мряка» — когда невозможно улететь самолетом, потому что туманы и смог.
А я остался. Ознакомившись с ситуацией, сказал, что это не инфекция, чем вызвал неудовольствие местного руководства. Говорят мне: «Как не инфекция? Вот же, болеют люди, живущие вдоль дорог, значит, кто-то людей там кусает». Собирают комитет из Киева, начинают рассуждать, что это озоновая дыра на них воздействует или еще что. Основная версия связана с подсолнечным маслом. Одесситы так и говорили — «хламидия на постном масле».
Что оказалось: в этот период были проблемы с растительным маслом. А на птицефабрику привозили это масло и добавляли в него витамин Д. Но курам давали по капельке. Люди воровали это масло, продавали цыганам, а цыгане продавали его вдоль дорог.
Дело в том, что витамин Д очень сильно разрушает кости, вымывает кальций, который выводится в повышенном количестве с мочой и раздражает слизистые оболочки мочеполовых органов. Из-за гиперкальциемии повышалось артериальное давление… Иначе говоря, у людей было отравление витамином Д.
Нельзя принимать витамин Д в больших дозах без прямых показаний! Мало того — сейчас препараты для лечения гипертонии основаны на том, что надо подавлять избыток кальция. Это очень тонкое дело: от избытка витамина Д кальций начинает выходить из депо.
В связи с мочеполовыми симптомами приехали специалисты из Харьковского института урологии. У кого-то нашли эти хламидии — они сами по себе могли быть, было и раздражение слизистых. Но проблема эта была не инфекционная, хотя списать все на инфекцию было проще. Дополнительными исследованиями мне удалось обнаружить избыток выделяемого кальция в моче, при рентгенологическом исследовании обнаружилось разрушение костного скелета, что и подтвердило истинную причину болезни.
«У нас везде есть микробы, и они нам необходимы»
Иногда меня спрашивают: как вы думаете, удастся ли победить все инфекции? Я считаю, что нет. Моя теория, которую не все любят, — они от природы. Невозможно победить природу. И не надо. Микробы живут везде. Ошибочна теория ВОЗ, когда они разделили все болезни на инфекционные и неинфекционные. Как могут быть неинфекционные болезни в организме, полном микробов? У нас микробных клеток больше, чем наших собственных. Представьте себе, что идет какой-то процесс в микробном организме, и как он может быть безмикробным? Поэтому я спорю с теми, кто считает иначе. У нас везде есть микробы, даже в крови появляются периодически. И они нам необходимы. Часть из них болезнетворные, но далеко не все. Поэтому наша задача — не спорить с природой, а познавать ее.
При этом ни один учебник не говорит, что инфекция — явление природное. Я делал доклад «Роль инфекции в патологии человека». Оказывается, даже глаукома может возникнуть вследствие перенесенной краснухи. Все взаимосвязано.
Сейчас я занимаюсь теорией воспаления. Вот есть холестерин — его избыток вызывает атеросклероз. Очень мало людей, у которых наследственная гиперхолестеринемия. У них генетика нарушена. Таких людей 0,5%, у которых холестерин 10, 20, 30. У большинства людей он 5-6, лучше 4. А почему у отдельных людей с повышенным или даже нормальным холестерином случается инфаркт, инсульт, гипертония, а у других нет? Оказывается, для того, чтобы случилась эта сосудистая катастрофа, нужно, чтобы было обострение воспалительных реакций. Воспалительный процесс развивается и в атеросклеротических бляшках, также он способствует агрегации тромбоцитов с развитием диссеминированного свертывания и последующими сосудистыми катастрофами.
Воспаление бывает двух видов: острое — тогда сепсис возникает; и вялое, хроническое — отиты, гаймориты, периодонтиты, инфекции мочеполовых путей, причем на них почти никто не обращает внимание, если симптомы не сильно выражены. Восемьдесят процентов того же хламидиоза у женщин протекает бессимптомно. Или люди стесняются об этом говорить — что-то щиплет, колет, «само пройдет».
Но рецидивы и постоянные обострения воспалительных реакций являются реальной угрозой сосудистых катастроф, свидетельством чего были и осложнения при коронавирусной инфекции. Поэтому всем нам надо не только надеяться на докторов, но и самим уделять внимание своему здоровью и не запускать хроническую патологию.
Тромбоциты и воспаление
Мое внимание привлекли публикации по исследованиям системы гемостаза. Оказалось, что в большинстве своем они посвящены кардиологическим, неврологическим, хирургическим больным, что вполне объяснимо — это ведь основные причины смертности. Однако при инфекциях, где мы также видим часто тромбогеморрагические осложнения, обстоятельных публикаций немного.
Мне вместе с моими учениками удалось провести серию исследований при основных распространенных инфекционных болезнях и обобщить результаты в опубликованной монографии. Но основное число работ по гемостазу посвящено только патофизиологическим нарушениям, при этом не учитывается микробная составляющая организма.
Было принято считать, что тромбоциты осуществляют лишь функцию гемостаза. В последние годы появляется все больше работ, в том числе и наших, по обнаружению микробов в тромбоцитах и участию их в переносе инфекции. Оказалось, что они являются своеобразным резервом микроорганизмов, участвуют в процессе воспаления в виде диагностируемого тромбовоспалительного синдрома. Если в норме лишь небольшой процент их инфицирован, то при хроническом воспалении микробная нагрузка в них возрастает, запускается агрегация с последующими сосудистыми катастрофами.
Я предлагаю не ждать, когда инфаркт или инсульт произойдет, а на основании микробной нагрузки тромбоцитов предсказывать вероятность таких осложнений. Я убежден, что тромбоциты отражают наличие очага системного воспаления в организме в большей степени, чем другие показатели.
А если так, то сразу ясно, как поступить, — хотя бы банально принять аспирин, который позволяет тромбоцитам не склеиваться. Ни к какому холестерину это отношения не имеет. Холестерин высокий, но ты не умрешь, если у тебя не будет воспаления.
«Пандемии приходят и уходят, а мы остаемся»
Вы говорите: что делать? Ты и сам должен очаги искать, и врач должен смотреть, есть у тебя такие очаги или нет. Например, простой анализ: С-реактивный белок, который говорит, что у тебя в организме воспаление. Почему не делать его при диспансеризации? Надо делать! Я хожу, говорю, повторяю, но никто не делает.
Как я отношусь к таблеткам? Плохо, если в них нет необходимости. Не надо пить лекарства, если можно их не пить. Аккуратнее с этим нужно. А еще надо правильно питаться.
Я когда-то прочитал высказывания онколога академика Трапезникова, что надо ежедневно есть пять овощей и несколько фруктов, чтобы не было опухолей. Может, это еще не доказано, но я в это верю. Также считаю: прежде чем накормить себя, надо подкормить свой микробиом — рекомендуется перед завтраком употреблять кисломолочные продукты.
Так и живем — не надо никаких излишеств, никакой зависти, а надо стараться быть добрым к людям и поддерживать ближних. Не можешь быть добрым, не умеешь любить — ну и ладно, тогда хотя бы не делай зла, не подличай и не ври, и все будет в порядке. Живите с надеждой на будущее: пандемии приходят и уходят, а мы остаемся. Самое трудное — познать самого себя, беречь и повышать свой духовный и физический потенциал на протяжении жизни, быть готовым к будущим трудностям. Но это и самое важное.


 Меню
Меню





 Все темы
Все темы




 0
0